Алексей Егоров
Начал писать несколько лет назад.
На русском, одна публикация в Vmesto.media.
На шведском - несколько эссе в двух молодёжных журналах и на сайте Site Zones.
окончил в прошлом году философский факультет в Södertörn Högskola
(уже девять лет живу в Стокгольме, но родом из Петербурга).
На русском, одна публикация в Vmesto.media.
На шведском - несколько эссе в двух молодёжных журналах и на сайте Site Zones.
окончил в прошлом году философский факультет в Södertörn Högskola
(уже девять лет живу в Стокгольме, но родом из Петербурга).
"В краю the Cure"
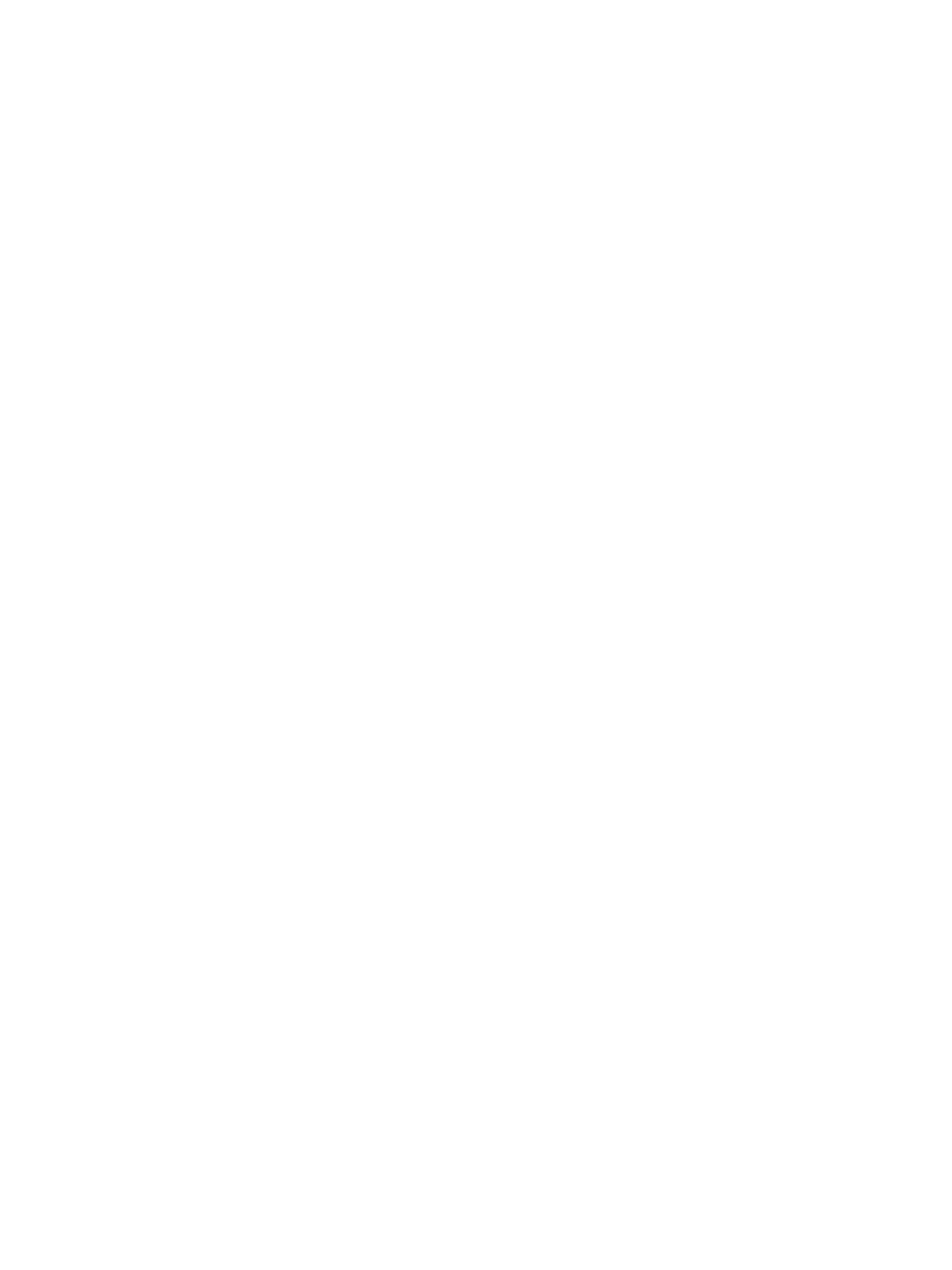
Осознание (летняя вкладка, заметка про насекомое)1
В летописи дней она — огненный знак препинания, похожа на вот это — «;», пробел вторжения в дела людей она, лейтмотив (каких историй, каких мелодий и картин?), она перебивает разговоры их не подслушивая. Высокомерная и жмётся к земле. Ей никогда не интересны наши разговоры. Это скандал! Её не интересуют наши разговоры! Её не интересуют ничьи разговоры! Она перебивает. Она напоминание о жалах случая. Гость без спроса. Капля острого сидра. Огненное перо критика, против болтунов и праздных гуляк она. Намекает на то, что всё мы тратим дни солнца как-то не так и акцентуирует открытое окно, разрезанный арбуз, жизнь. Она перьевая ручка, и плевать хотела на чопорных людей в костюмах, пишет только самые острые слова, замечания, демонстрируя нашу уязвимость, зыбкость наших положений и поз — мы подпрыгивает и вскакиваем и кричим. Словно Чацкие в театре, как чижи, всегда как-то старомодно. Она пишущий инструмент невидимого сочинителя и его письменный стол это луг. Он что-то вроде Карамзина в жилетке невидимого и ещё больше Жюль Мишле — он страстно пишет Жанну Дарк, костры и стрелы, пролитую кровь, проклятья, ложь, прощальные молитвы, молчанье неба. Она — ревнивая любовница герра Сахара. Сластёсна ведущая войну против других сластён она. Она словно рождена для поучительной басни (но в ней всё неподвластно, в ней неприличие природы, в ней порнография иного сорта). Гордая оса — пуля без темницы ствола пистолета, механизма курка и замка. Своевольная, не согласится сидеть ни во рту, ни в черепе у самоубийцы (по крайней мере если мозг его не сладок, не медовый мозг, не ум из варенья (jam made mind)), и в руках у убийцы. И не послушается наушничаний, науськиваний, подстрекательства, подсказок целей. Она сама знает где мёд и сахарин, где ранен фрукт. Маленький Дрон. Бог или никто его оператор. Как циркуль архитектора расчерчивает жалом план построения опасного дворца июля по ватману духоты, это зодчество риска и случая, это алый шатер АЙ! — и всё ужаленные приглашены в гости в казино этой почему-то поучительной боли2. А ветер с моря дует-разносит запах клевера, приносит пыль в асфальтовом конверте, сыплет в нос сухостью. Оса напоминает — вы даже в современности не избежали, вы заперты в картине Ренуара старшего и в фильме Ренуара младшего, в рассказе Бунина, в мелодии Скрябина, Эрика Сати, в учебнике биологии, в оранжевом по геометрии. Вы персонажи неписаной пьесы.
А если вы не читали и не смотрели и не слушали и не учили её — тем не менее всё ж вы заперты, пока не знаете, вы не ос ознаны.
По дороге в край the Cure
Я читал Пятигорского, Философию одного переулка, а слушал the Cure, в общем своеобычное сочетание. Но согласитесь, что и то и то — сколоченное из планок и досок, насквозь воздушное и птичье. А это — что-то вроде письма. Лето прошло давным-давно и сейчас была осень.
Так вот, мы покинули город на синем автобусе. На севере города, на выезде, там расположены две скалы, что-то вроде Фермопил, да только никаких спартанцев не предполагается, и север, и осень, без препятствий, проезжают в город на крышах быстрых автомобилей. Но мы ехали в другую сторону, из города. Воистину, как мне тогда казалось, мы ехали в край the Cure (просто я их слушал). Мы пересекали Disintegration и приближались к другим альбомам. К Seventeenth Seconds. Розовые сумерки с обложки втекали в мир и размытые ветви нависали над крышей автобуса. Дорога была достаточно узка, огни автомобилей были красные как в детстве. Музыка The Cure рассказала о том, что совы реальны и о том, что в этот час они взлетают над лесом! Ночь пришла скоро, всё почернело, луна окаменела, а облака воспрянули, закат был без стеснения багрян и лилов (здесь, за городом они не стесняются, никто не стесняется готики). По той достаточно узкой дороге мы уезжали вглубь октябрьского мяса. Всё сперва напоминало посредственную картину с осенним пейзажем, даже плохую, такие висят в жилищах пожилых людей не интересующихся искусством. Но дорога нас втянула себя, мы падали в прохладное пространство, нас затягивало и мы въезжали в пейзаж на быстрой скорости. Казалось бы осень, с её холодной красотой, должна была бы олицетворять интеллектуальное любование, холодного сознания бесплодное одобрение. Но если честно, то это не так. Что-то в осени — неподдельно. Она как влюбившаяся очень красивая женщина. Всё было такое оголенное, красивое, я воображал гильотины на холмах в этом мире цвета робы средневековых палачей. И головы Марий Антуанетт сыпались как яблоки и тыквы на землю катясь по склонам холмов. Я чувствовал что моя грудь — топка паровоза в которую необходимо забрасывать пучки листвы.
Не умея оставить всё как есть и не в силах заткнуться, не умея посягнуть ни на настоящую поэзию из огня, ни взять на скальпель мои ощущения для доморощенной феноменологии, я написал всё это. В моторах тамошних машин, тем вечером, горел поэтический бензин.
О музыке, о дружбе, об ошибках поперёк жизни
Я рассматривал Сигрид. До этого мы виделись один лишь раз. Не думаю, что мы будем когда-либо друзьями, мы слишком разные, она лишь образец подлинной жизни для меня. Сигрид любит танцевать, это дело её жизни (современные танцы), и вся она как самородок-энергии. Ей кажется не по душе отсутствие во мне простосердечия.
И спустя много лет фраза Ницше о том, что без музыки жизнь была бы ошибкой безусловно верна. Верней всего она тогда, когда мы в музыке, с музыкой. Но непонятна когда мы вне её. Это хорошо, это говорит в пользу музыки, это хорошо, что её абсолюты ничего не меняют, не являются обязательными, она отказывается играть по правилам необходимостей.
Без чего ещё жизнь была бы ошибкой? Кончено без встреч. Это то, что сложно измерить и сложно понять, это единственное, что делает жизнь настоящей и привносит привилегию ответственности. В общем какие-то люди проходят по нашей жизни очень значительно и обжигают сознание, всё это вписывается в книгу жизни. Не мы управляем случаем встреч, они случаются и не случаются. Эта та несправедливость которую не замечают. Протестуют и бунтуют против чего угодно, но не против того, что у нас, вообще-то, так мало друзей, что мы отрезаны от них, не встретились, не встретим, или встретили и встретим лишь однажды, лишь иногда, всегда мало, всегда недостаточно. Бунт против чего? Времени? Пространства? Обстоятельств? Нашей скованности и скупости наших фантазий? Нашего непонимания того, как наши друзья выглядят и не умения их распознать? (Здесь я переступил сентиментальную черту и засыпал всё сахаром, я извиняюсь заранее, об этих вещах сложно писать. А не кажется ли вам, что и в самой искренней дружбе есть элемент прекрасного отчуждения, словно читаешь книжку о дружбе и приключениях друзей?).
Дружба. Не об этом ли революция? Когда она горит дальней зарёй, а не на бумаге и не в политике. Не про это ли Площадь Восстания? Когда-то я жил в Петербурге. Я помню, как портрет Маяковского смотрел на меня и на всех нас. И помню, что в этом взгляде было что-то (призыв, на грани укора, но всё-таки в укор не переходящий), на что, я знал, я не смогу ответить. Выйдя из метро на поверхность, смотря в сторону колонны, я воображал как полупрозрачная конница выезжала по Лиговке, кружилась вокруг колонны, взмывала в итоге в воздух по бесовской и освободительной спирали. Восставшая кавалерия, на их кирасах блестел свет. Таковы были видения ясных морозных дней. Таков был внутренний ответ на имя Площадь Восстания.
Безграмотная, бергамотная прогулка (первое утро загородом)
Безграмотная прогулка по простоте вымирания того, что не так давно называли летом. Теперь это осенний лес. Он как надгробие для самого себя летнего, как поджарая решетка кладбища похороненного сада.
И шаг за шагом, вот так идти, не знать ни имён, ни должностей деревьев и растений, не замечать их возрастов, не понимать, не различать их болезней и старения, лишь догадываться о том, как химия для них близка, как чувствуют они окисления, сухость и влагу, их Процесс. Такая необразованность и к лучшему и к худшему.
(Да, это в первое утро я обошел вокруг дома, и шел против часовой стрелки и потому чувствовал как неодобрительно время вжималось в меня, сопротивляясь).
Территория была расположена под полётом ангела-курьера (второй день)
Октябрь — окно. Открыть, закрыть, или задёрнуть штору и забыть, или разбить.
Когда же тяжёлое сердце упало в ясный сей воздух разбив его на множество осколков каждый шаг начал хрустеть. Если ты или я шли по дороге нам резало ноги, но не демону мнительностей, пустословий. За ночь в мире случился пейзаж и в воздухе осуществлялась эволюция многих предметов. Ветер был — отец птиц, птицы были — матери рук (хватали палки и ломали, уносили), жесты — всеобщими сыновьями, князьями безземельными. Прогулка уходила не будя рук, уснувших, зажмурившихся в карманах, в теплоте путешествующих нор. Облака — пепел рассыпанный по зеркалу. А по воде озера ходил лебединый патруль, двое охранников переодетых в пернатых стражей пейзажа (ибо и в сказках есть законы, и существует чудо-бюрократия, экономика растений, пауки — чиновники грёз, а деревья используют тишину как валюту, а море, конечно же, — сверкающий миллионер). По траектории золотой радуги над этой территорией летел стих Лермонтова Ангел. Он душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз, он нёс её как посылку, перевязав шнурком, ангел-курьер, и слушал в наушниках хип-хоп old school, качая головой. И па па па папоротниковый локоть изгиба дороги толкал по боку меня вгоняя в запустение, а месяц заблудившийся в голубом утреннем воздухе, спрашивал дорогу и чтоб я проводил его взглядом сквозь курчавые ветви на свободные кислородные пашни. И пусть сама тропинка уводила как мелодия заставляющая предугадывать свои предстоящие изгибы — но как же холодно было на душе. Пустой дом по возвращении напугал меня и даже когда он заполнился голосами я не мог забыть этого чувства. Ведь за всё нужно платить, в особенности за пение, за предисловие и послесловие к нему. Если я спрашивал себя о праве на правду, на воздух, на место, на мысли, на чувства — я не находил в себе и для себя ничего.
Я становлюсь занудными невеселым. Какая скука! Что-то вроде чистилища, что-то вроде подсчета, что-то необходимое, что-то утомительное, незаметное для сторонних взглядов, но важное для самого себя (всё это нужно было делать и проживать в себе. «Проживать» — я этого не умеют и боюсь). Чувствовать чувства — это занудно. Давай притворимся, что в нас ничего нет.
Когда бы дерево очнулось человеком
Когда бы дерево очнулось человеком, проспав по ошибке свою остановку Лес, ему бы было ничуть не легче, чем человеку застывшему на полушаге неожиданно растением. Открыв глаза ему сложно было бы понять глаза, сложнее, чем младенцу, которому заведомо завещано иметь глаза. Кричать дерево не закричало бы, плакать не плакало бы, ощущая бессмысленность такого действия — у деревьев нет матерей и отцов, нет утешителей: берёзы — сёстры, сосны — сёстры, ели — сёстры, а тополя — братья, и клёны — князья-братья, дубы и кедры — отцы, но отцы самих себя. Флора — это совсем другие правила игры, семьи и разговора. Очеловеченного дерева бурные ощущения вскружили бы, оно бы не поняло, что оно стало человеком, оно бы подумало, что его заставили жить в горячем водопаде, быть фонтаном крови. Оно бы не поняло мысли и чувства. Оно бы не льнуло к собственным чувством и на мысли свои смотрело бы со стороны, не стараясь вникнуть в них. Но оно бы попыталось найти в себе привычное — сухость и влагу, безмолвный медленный рост. Так и оказалось бы, что дерево, из всего своего нового пульсирующего тела доверяло бы только ногтям и волосам, оно бы убегало к ним, вжимаясь, оно бы бурчание живота сочло своим голосом, а голос рта побочным, малозначительным звуком.
Где змея заползла петлицей под веранду в полдень
По пейзажу красноватых, рыжеватых, ржавых железных окрасок ползла змея, петлицей не требующей ни снисхождения, ни сожаления. Окраской как кусок угля, но немного блестя (не как цирковая блёстка, но как звезда, по-честному, по-настоящему). Не имеющая рук, не созданная для приручения, она подбородком тёрлась о землю, она текла к своей цели,и пластичностью напоминала зловещую мелодию невозможно недоброго кларнета изгнанную из царства музыки в мир голодных тел. Как цифра 2 налопавшаяся мышей. Может быть где-то в здешних рощах обитал колдун-моцарт сочинивший и сыгравший её и ей подобных, или здесь поблизости был источник новой бинарной алгебры и танцевал пифагорейский сатир (а по правде она была так обезоруживающе проста, самой собой, так одинока). Люди стоящие на веранде заприметили её, закричали и указали на неё пальцами. — Змея! Змея! — Она же скрылась найдя дыру в почве. Она была под домом.
Теперь спросите меня как этот край устроен
Теперь спросите меня как этот край устроен. Я вам скажу, что он построен как Эдем. Даже шоссе неслышно здесь. Лишь время от времени проходит по воде паром. Как инопланетянин-корабль. Вон та дорога, наискось, и вон то дерево (я наверно видел такое на картине) здесь для того, чтоб по ним прошли Адам и его Ева. Но этот мир так отчетливо встал в прошлом, в осени мифа, под солнцем Лоррена. Большие деревья бросили якоря в бухту времён. Так что здешний Адам седой, как старый кот, и двигается рывками, в его членах нет прежней безусловной гибкости. Его жена как серебро не утратившее ни красоты, ни ценности, но опечаленное. Ева — ты как монета погибшего города, островного полиса, — твоя цена не ушла, но ты заражена печалью и прошлым. А в доме — яблоки и вино (это терпко, а потом в животе от этого непорядок и наступает приятная сонность).
Другая версия изгнания
В чувствах же рассказ об изгнании из Эдема переигран. Рептилия меня смутила. И я никому не сказал, но погрузился в размышления. Это не мысли меня одолевали, но чувства. Несимволизм и материя происходящего. В моей версии змей не подстрекает, просто ползёт, он просто живёт и никого не трогает. Но тот кто увидит его не сможет избежать, чтоб мысль о нём не вползла в сознание. Его это помутит. Сам вид этого существа и образ его существования. Не грустно и не страшно и не мерзко быть змеёй, но странно, бесконечно странно. Здесь кто-то жив, она жива — вот так, между листов, близко к земле, с коллекцией запахов на языке (ползёт по карусели запахов). Кто-то обитает в саду помимо Адама и жены его Евы, кто-то без ручек (и он не поломанный пупс на барахолке), кто-то, кто ест жучков и яйца птиц, кто-то холоднокровный, кто-то кому — в октябре — холодно. С этой мыслью Эдем не разрушен, но усложнен, в его щели впущены ужи и жуки, сквозь него течёт время, все транзиты, вся бездомность, сиротливость, рассуждения, и молчание камней и голоса за столом сыплются в корзину…
Аксиомы
В одной из комнат дома старик держит младенца на руках. Они подобны математической аксиоме или они два угла треугольника, я не знаю где скрывается третий угол. Может быть смутное сравнение, но есть что-то в стариках и детях неопровержимое, точное, аксиоматичное. Мне бы хотелось сочинить о девочке приветственный стих, но для этого необходима вера в собственную чистоту, некий суеверный страх мне запрещает делать это.
Слушая как сушатся небесные простыни
У the Cure есть два сорта песен: холодные-сумеречные и разноцветные. Разноцветные, например Pictures of you, это небесная стирка и простыни облаков мокнущие в розовом верхнем воздухе. В этом готика или закос под неё (современные церкви Англии и Ирландии) и витражи, иногда диснеевский Париж, утро выходных дней и ещё мокрая трава под ногами. Как-бы шкатулка с безделушками и украшения с дешевыми цветными камнями и близость теплого корявого творчества. В холодных их песнях мы не чужаки по климатическим соображениям, по причинам северного света, мы в a Forest заходим как в настоящий лес (и он настоящий лес), не замечая порога между песней и не песней, между перкуссией и хрустом веток, между аранжировкой и холодным воздухом (так же, вот уж пять столетий, мы входим в картину Охотники на снегу). Когда клавиши жмутся, то дребезжат как доски в пустом и заброшенном доме. Эти песни — стулья, стоящие в болотах. Эта музыка никогда не игралась в современность, она выживает потому что существует в щелях сознания и её не достать, она любит сумерки и честна как фантики из под конфет.
1 А по правде я (почти) украл это у Франсиса Понжа, есть у него такой текст, о том какая оса крутая
2 Отчего мы признаем за осами как-бы моральное превосходство? Как и в случае с крапивой… у них есть право нас обжигать и жалить?
В летописи дней она — огненный знак препинания, похожа на вот это — «;», пробел вторжения в дела людей она, лейтмотив (каких историй, каких мелодий и картин?), она перебивает разговоры их не подслушивая. Высокомерная и жмётся к земле. Ей никогда не интересны наши разговоры. Это скандал! Её не интересуют наши разговоры! Её не интересуют ничьи разговоры! Она перебивает. Она напоминание о жалах случая. Гость без спроса. Капля острого сидра. Огненное перо критика, против болтунов и праздных гуляк она. Намекает на то, что всё мы тратим дни солнца как-то не так и акцентуирует открытое окно, разрезанный арбуз, жизнь. Она перьевая ручка, и плевать хотела на чопорных людей в костюмах, пишет только самые острые слова, замечания, демонстрируя нашу уязвимость, зыбкость наших положений и поз — мы подпрыгивает и вскакиваем и кричим. Словно Чацкие в театре, как чижи, всегда как-то старомодно. Она пишущий инструмент невидимого сочинителя и его письменный стол это луг. Он что-то вроде Карамзина в жилетке невидимого и ещё больше Жюль Мишле — он страстно пишет Жанну Дарк, костры и стрелы, пролитую кровь, проклятья, ложь, прощальные молитвы, молчанье неба. Она — ревнивая любовница герра Сахара. Сластёсна ведущая войну против других сластён она. Она словно рождена для поучительной басни (но в ней всё неподвластно, в ней неприличие природы, в ней порнография иного сорта). Гордая оса — пуля без темницы ствола пистолета, механизма курка и замка. Своевольная, не согласится сидеть ни во рту, ни в черепе у самоубийцы (по крайней мере если мозг его не сладок, не медовый мозг, не ум из варенья (jam made mind)), и в руках у убийцы. И не послушается наушничаний, науськиваний, подстрекательства, подсказок целей. Она сама знает где мёд и сахарин, где ранен фрукт. Маленький Дрон. Бог или никто его оператор. Как циркуль архитектора расчерчивает жалом план построения опасного дворца июля по ватману духоты, это зодчество риска и случая, это алый шатер АЙ! — и всё ужаленные приглашены в гости в казино этой почему-то поучительной боли2. А ветер с моря дует-разносит запах клевера, приносит пыль в асфальтовом конверте, сыплет в нос сухостью. Оса напоминает — вы даже в современности не избежали, вы заперты в картине Ренуара старшего и в фильме Ренуара младшего, в рассказе Бунина, в мелодии Скрябина, Эрика Сати, в учебнике биологии, в оранжевом по геометрии. Вы персонажи неписаной пьесы.
А если вы не читали и не смотрели и не слушали и не учили её — тем не менее всё ж вы заперты, пока не знаете, вы не ос ознаны.
По дороге в край the Cure
Я читал Пятигорского, Философию одного переулка, а слушал the Cure, в общем своеобычное сочетание. Но согласитесь, что и то и то — сколоченное из планок и досок, насквозь воздушное и птичье. А это — что-то вроде письма. Лето прошло давным-давно и сейчас была осень.
Так вот, мы покинули город на синем автобусе. На севере города, на выезде, там расположены две скалы, что-то вроде Фермопил, да только никаких спартанцев не предполагается, и север, и осень, без препятствий, проезжают в город на крышах быстрых автомобилей. Но мы ехали в другую сторону, из города. Воистину, как мне тогда казалось, мы ехали в край the Cure (просто я их слушал). Мы пересекали Disintegration и приближались к другим альбомам. К Seventeenth Seconds. Розовые сумерки с обложки втекали в мир и размытые ветви нависали над крышей автобуса. Дорога была достаточно узка, огни автомобилей были красные как в детстве. Музыка The Cure рассказала о том, что совы реальны и о том, что в этот час они взлетают над лесом! Ночь пришла скоро, всё почернело, луна окаменела, а облака воспрянули, закат был без стеснения багрян и лилов (здесь, за городом они не стесняются, никто не стесняется готики). По той достаточно узкой дороге мы уезжали вглубь октябрьского мяса. Всё сперва напоминало посредственную картину с осенним пейзажем, даже плохую, такие висят в жилищах пожилых людей не интересующихся искусством. Но дорога нас втянула себя, мы падали в прохладное пространство, нас затягивало и мы въезжали в пейзаж на быстрой скорости. Казалось бы осень, с её холодной красотой, должна была бы олицетворять интеллектуальное любование, холодного сознания бесплодное одобрение. Но если честно, то это не так. Что-то в осени — неподдельно. Она как влюбившаяся очень красивая женщина. Всё было такое оголенное, красивое, я воображал гильотины на холмах в этом мире цвета робы средневековых палачей. И головы Марий Антуанетт сыпались как яблоки и тыквы на землю катясь по склонам холмов. Я чувствовал что моя грудь — топка паровоза в которую необходимо забрасывать пучки листвы.
Не умея оставить всё как есть и не в силах заткнуться, не умея посягнуть ни на настоящую поэзию из огня, ни взять на скальпель мои ощущения для доморощенной феноменологии, я написал всё это. В моторах тамошних машин, тем вечером, горел поэтический бензин.
О музыке, о дружбе, об ошибках поперёк жизни
Я рассматривал Сигрид. До этого мы виделись один лишь раз. Не думаю, что мы будем когда-либо друзьями, мы слишком разные, она лишь образец подлинной жизни для меня. Сигрид любит танцевать, это дело её жизни (современные танцы), и вся она как самородок-энергии. Ей кажется не по душе отсутствие во мне простосердечия.
И спустя много лет фраза Ницше о том, что без музыки жизнь была бы ошибкой безусловно верна. Верней всего она тогда, когда мы в музыке, с музыкой. Но непонятна когда мы вне её. Это хорошо, это говорит в пользу музыки, это хорошо, что её абсолюты ничего не меняют, не являются обязательными, она отказывается играть по правилам необходимостей.
Без чего ещё жизнь была бы ошибкой? Кончено без встреч. Это то, что сложно измерить и сложно понять, это единственное, что делает жизнь настоящей и привносит привилегию ответственности. В общем какие-то люди проходят по нашей жизни очень значительно и обжигают сознание, всё это вписывается в книгу жизни. Не мы управляем случаем встреч, они случаются и не случаются. Эта та несправедливость которую не замечают. Протестуют и бунтуют против чего угодно, но не против того, что у нас, вообще-то, так мало друзей, что мы отрезаны от них, не встретились, не встретим, или встретили и встретим лишь однажды, лишь иногда, всегда мало, всегда недостаточно. Бунт против чего? Времени? Пространства? Обстоятельств? Нашей скованности и скупости наших фантазий? Нашего непонимания того, как наши друзья выглядят и не умения их распознать? (Здесь я переступил сентиментальную черту и засыпал всё сахаром, я извиняюсь заранее, об этих вещах сложно писать. А не кажется ли вам, что и в самой искренней дружбе есть элемент прекрасного отчуждения, словно читаешь книжку о дружбе и приключениях друзей?).
Дружба. Не об этом ли революция? Когда она горит дальней зарёй, а не на бумаге и не в политике. Не про это ли Площадь Восстания? Когда-то я жил в Петербурге. Я помню, как портрет Маяковского смотрел на меня и на всех нас. И помню, что в этом взгляде было что-то (призыв, на грани укора, но всё-таки в укор не переходящий), на что, я знал, я не смогу ответить. Выйдя из метро на поверхность, смотря в сторону колонны, я воображал как полупрозрачная конница выезжала по Лиговке, кружилась вокруг колонны, взмывала в итоге в воздух по бесовской и освободительной спирали. Восставшая кавалерия, на их кирасах блестел свет. Таковы были видения ясных морозных дней. Таков был внутренний ответ на имя Площадь Восстания.
Безграмотная, бергамотная прогулка (первое утро загородом)
Безграмотная прогулка по простоте вымирания того, что не так давно называли летом. Теперь это осенний лес. Он как надгробие для самого себя летнего, как поджарая решетка кладбища похороненного сада.
И шаг за шагом, вот так идти, не знать ни имён, ни должностей деревьев и растений, не замечать их возрастов, не понимать, не различать их болезней и старения, лишь догадываться о том, как химия для них близка, как чувствуют они окисления, сухость и влагу, их Процесс. Такая необразованность и к лучшему и к худшему.
(Да, это в первое утро я обошел вокруг дома, и шел против часовой стрелки и потому чувствовал как неодобрительно время вжималось в меня, сопротивляясь).
Территория была расположена под полётом ангела-курьера (второй день)
Октябрь — окно. Открыть, закрыть, или задёрнуть штору и забыть, или разбить.
Когда же тяжёлое сердце упало в ясный сей воздух разбив его на множество осколков каждый шаг начал хрустеть. Если ты или я шли по дороге нам резало ноги, но не демону мнительностей, пустословий. За ночь в мире случился пейзаж и в воздухе осуществлялась эволюция многих предметов. Ветер был — отец птиц, птицы были — матери рук (хватали палки и ломали, уносили), жесты — всеобщими сыновьями, князьями безземельными. Прогулка уходила не будя рук, уснувших, зажмурившихся в карманах, в теплоте путешествующих нор. Облака — пепел рассыпанный по зеркалу. А по воде озера ходил лебединый патруль, двое охранников переодетых в пернатых стражей пейзажа (ибо и в сказках есть законы, и существует чудо-бюрократия, экономика растений, пауки — чиновники грёз, а деревья используют тишину как валюту, а море, конечно же, — сверкающий миллионер). По траектории золотой радуги над этой территорией летел стих Лермонтова Ангел. Он душу младую в объятиях нёс для мира печали и слёз, он нёс её как посылку, перевязав шнурком, ангел-курьер, и слушал в наушниках хип-хоп old school, качая головой. И па па па папоротниковый локоть изгиба дороги толкал по боку меня вгоняя в запустение, а месяц заблудившийся в голубом утреннем воздухе, спрашивал дорогу и чтоб я проводил его взглядом сквозь курчавые ветви на свободные кислородные пашни. И пусть сама тропинка уводила как мелодия заставляющая предугадывать свои предстоящие изгибы — но как же холодно было на душе. Пустой дом по возвращении напугал меня и даже когда он заполнился голосами я не мог забыть этого чувства. Ведь за всё нужно платить, в особенности за пение, за предисловие и послесловие к нему. Если я спрашивал себя о праве на правду, на воздух, на место, на мысли, на чувства — я не находил в себе и для себя ничего.
Я становлюсь занудными невеселым. Какая скука! Что-то вроде чистилища, что-то вроде подсчета, что-то необходимое, что-то утомительное, незаметное для сторонних взглядов, но важное для самого себя (всё это нужно было делать и проживать в себе. «Проживать» — я этого не умеют и боюсь). Чувствовать чувства — это занудно. Давай притворимся, что в нас ничего нет.
Когда бы дерево очнулось человеком
Когда бы дерево очнулось человеком, проспав по ошибке свою остановку Лес, ему бы было ничуть не легче, чем человеку застывшему на полушаге неожиданно растением. Открыв глаза ему сложно было бы понять глаза, сложнее, чем младенцу, которому заведомо завещано иметь глаза. Кричать дерево не закричало бы, плакать не плакало бы, ощущая бессмысленность такого действия — у деревьев нет матерей и отцов, нет утешителей: берёзы — сёстры, сосны — сёстры, ели — сёстры, а тополя — братья, и клёны — князья-братья, дубы и кедры — отцы, но отцы самих себя. Флора — это совсем другие правила игры, семьи и разговора. Очеловеченного дерева бурные ощущения вскружили бы, оно бы не поняло, что оно стало человеком, оно бы подумало, что его заставили жить в горячем водопаде, быть фонтаном крови. Оно бы не поняло мысли и чувства. Оно бы не льнуло к собственным чувством и на мысли свои смотрело бы со стороны, не стараясь вникнуть в них. Но оно бы попыталось найти в себе привычное — сухость и влагу, безмолвный медленный рост. Так и оказалось бы, что дерево, из всего своего нового пульсирующего тела доверяло бы только ногтям и волосам, оно бы убегало к ним, вжимаясь, оно бы бурчание живота сочло своим голосом, а голос рта побочным, малозначительным звуком.
Где змея заползла петлицей под веранду в полдень
По пейзажу красноватых, рыжеватых, ржавых железных окрасок ползла змея, петлицей не требующей ни снисхождения, ни сожаления. Окраской как кусок угля, но немного блестя (не как цирковая блёстка, но как звезда, по-честному, по-настоящему). Не имеющая рук, не созданная для приручения, она подбородком тёрлась о землю, она текла к своей цели,и пластичностью напоминала зловещую мелодию невозможно недоброго кларнета изгнанную из царства музыки в мир голодных тел. Как цифра 2 налопавшаяся мышей. Может быть где-то в здешних рощах обитал колдун-моцарт сочинивший и сыгравший её и ей подобных, или здесь поблизости был источник новой бинарной алгебры и танцевал пифагорейский сатир (а по правде она была так обезоруживающе проста, самой собой, так одинока). Люди стоящие на веранде заприметили её, закричали и указали на неё пальцами. — Змея! Змея! — Она же скрылась найдя дыру в почве. Она была под домом.
Теперь спросите меня как этот край устроен
Теперь спросите меня как этот край устроен. Я вам скажу, что он построен как Эдем. Даже шоссе неслышно здесь. Лишь время от времени проходит по воде паром. Как инопланетянин-корабль. Вон та дорога, наискось, и вон то дерево (я наверно видел такое на картине) здесь для того, чтоб по ним прошли Адам и его Ева. Но этот мир так отчетливо встал в прошлом, в осени мифа, под солнцем Лоррена. Большие деревья бросили якоря в бухту времён. Так что здешний Адам седой, как старый кот, и двигается рывками, в его членах нет прежней безусловной гибкости. Его жена как серебро не утратившее ни красоты, ни ценности, но опечаленное. Ева — ты как монета погибшего города, островного полиса, — твоя цена не ушла, но ты заражена печалью и прошлым. А в доме — яблоки и вино (это терпко, а потом в животе от этого непорядок и наступает приятная сонность).
Другая версия изгнания
В чувствах же рассказ об изгнании из Эдема переигран. Рептилия меня смутила. И я никому не сказал, но погрузился в размышления. Это не мысли меня одолевали, но чувства. Несимволизм и материя происходящего. В моей версии змей не подстрекает, просто ползёт, он просто живёт и никого не трогает. Но тот кто увидит его не сможет избежать, чтоб мысль о нём не вползла в сознание. Его это помутит. Сам вид этого существа и образ его существования. Не грустно и не страшно и не мерзко быть змеёй, но странно, бесконечно странно. Здесь кто-то жив, она жива — вот так, между листов, близко к земле, с коллекцией запахов на языке (ползёт по карусели запахов). Кто-то обитает в саду помимо Адама и жены его Евы, кто-то без ручек (и он не поломанный пупс на барахолке), кто-то, кто ест жучков и яйца птиц, кто-то холоднокровный, кто-то кому — в октябре — холодно. С этой мыслью Эдем не разрушен, но усложнен, в его щели впущены ужи и жуки, сквозь него течёт время, все транзиты, вся бездомность, сиротливость, рассуждения, и молчание камней и голоса за столом сыплются в корзину…
Аксиомы
В одной из комнат дома старик держит младенца на руках. Они подобны математической аксиоме или они два угла треугольника, я не знаю где скрывается третий угол. Может быть смутное сравнение, но есть что-то в стариках и детях неопровержимое, точное, аксиоматичное. Мне бы хотелось сочинить о девочке приветственный стих, но для этого необходима вера в собственную чистоту, некий суеверный страх мне запрещает делать это.
Слушая как сушатся небесные простыни
У the Cure есть два сорта песен: холодные-сумеречные и разноцветные. Разноцветные, например Pictures of you, это небесная стирка и простыни облаков мокнущие в розовом верхнем воздухе. В этом готика или закос под неё (современные церкви Англии и Ирландии) и витражи, иногда диснеевский Париж, утро выходных дней и ещё мокрая трава под ногами. Как-бы шкатулка с безделушками и украшения с дешевыми цветными камнями и близость теплого корявого творчества. В холодных их песнях мы не чужаки по климатическим соображениям, по причинам северного света, мы в a Forest заходим как в настоящий лес (и он настоящий лес), не замечая порога между песней и не песней, между перкуссией и хрустом веток, между аранжировкой и холодным воздухом (так же, вот уж пять столетий, мы входим в картину Охотники на снегу). Когда клавиши жмутся, то дребезжат как доски в пустом и заброшенном доме. Эти песни — стулья, стоящие в болотах. Эта музыка никогда не игралась в современность, она выживает потому что существует в щелях сознания и её не достать, она любит сумерки и честна как фантики из под конфет.
1 А по правде я (почти) украл это у Франсиса Понжа, есть у него такой текст, о том какая оса крутая
2 Отчего мы признаем за осами как-бы моральное превосходство? Как и в случае с крапивой… у них есть право нас обжигать и жалить?

