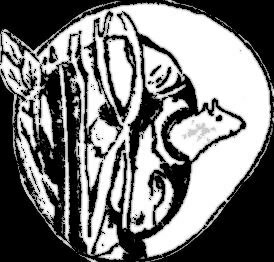Андрей Гелианов
Прозаик, эссеист.
Статьи и эссе публиковались в журнале «Неприкосновенный запас» и в проекте «post(non)fiction».
Один из редакторов русскоязычного веб-портала, посвящённого Томасу Пинчону.
Дебютная книга «Сад, где живут кентавры» вышла в 2024 году.
Не раскрывает личных данных.
Статьи и эссе публиковались в журнале «Неприкосновенный запас» и в проекте «post(non)fiction».
Один из редакторов русскоязычного веб-портала, посвящённого Томасу Пинчону.
Дебютная книга «Сад, где живут кентавры» вышла в 2024 году.
Не раскрывает личных данных.
О безумии Гёльдерлина
и wishful thinking
и wishful thinking
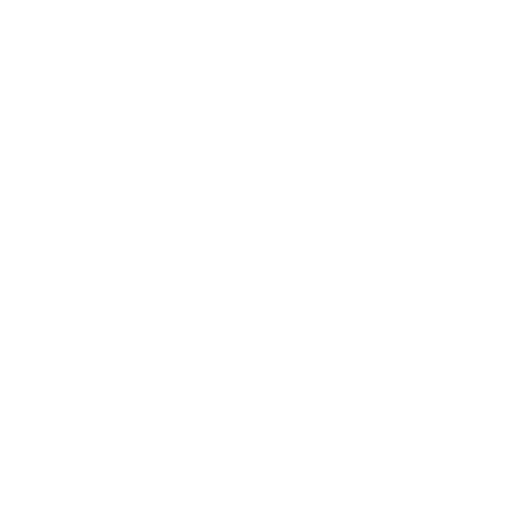
Великий немецкий поэт Иоганн Кристиан Фридрих Гёльдерлин начал сходить с ума в 1801-м, на тридцать первом году жизни. В 1806-м процесс стал терминальным. К сожалению, жизнь поэту выпала достаточно долгая, и всю вторую ее половину, даже больше — сорок три года! — он провел в шизофренических сумерках, практически не покидая знаменитую башню в Тюбингене, ставшую для погасшего разума последним пристанищем.
Чем именно болел Гёльдерлин мы никогда не узнаем. Заочные диагнозы с высоты прошедших столетий: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз или поздняя стадия сифилиса. Так или иначе, в силу ряда различных факторов эта довольно печальная история одного конкретного безумия впоследствии была поднята на щит — и из личной трагедии Гёльдерлина превратилась в символ, в метафизическую шараду, которая вдохновляла или как минимум повлияла на несколько поколений творцов.
Не будет большой натяжкой сказать, что наследием кейса Гёльдерлина является и культурное восприятие таких бесконечно далеких и от него и друг от друга фигур как, например, Александр Гротендик или Сид Барретт — которые также после краткого периода очень интенсивного в своей гениальности творчества удалились от мира и жили последние 40 лет в уединении, проявляя при этом несомненные признаки психического расстройства.
Если бы подобное произошло с булочником или пожарным, никому не было бы дела — но когда с ума сходит поэт/музыкант/математик, это сразу обрастает — до сих пор! — таким характерным флером: мол, конечно, как не сойти с ума, как жить дальше в этом фальшивом мире, когда ты заглянул на ту сторону…
Кто задал эти рамки? По Хайдеггеру, Гёльдерлин был «поэтом бытия», который не выдержал столкновения с абсолютной реальностью. Адорно и Лукач (ожидаемо) находили в поэте критика буржуазного рационализма и прото-борца с капиталом. Фуко перечисляет Гёльдерлина (через запятую с Нервалем и Арто) в число тех, чье безумие стало способом «говорить о реальности иначе», вернувшись к первичной гармонии (если ее можно так назвать) «неразумия». И так далее, и тому подобное.
Год спустя, после того, как Гёльдерлин, настигнутый безумием, вернулся в материнский дом, он писал тому же своему другу, вспоминая пребывание во Франции: «Эта могучая стихия, небесный огонь и людская тишина, их жизнь в природе, равно их ограниченность и довольство, неизменно захватывали и трогали меня, и если говорить о героях, могу, пожалуй, сказать, что меня-то сразил Аполлон» (V, 327). Сверхмощное свечение столкнуло поэта во тьму. Нужны ли еще свидетельства высочайшей опасности его «ремесла»? Своеобразнейшая судьба поэта более чем красноречива (Мартин Хайдеггер, «О поэтах и поэзии», 1936).
Еще цветут его уста, еще бродит его стареющее тело по немецкой земле, еще блуждает его взор по любимому ландшафту долины Неккара, еще возносит он благоговейный взор к «отцу эфиру», к вечному небосклону, — но ум его угас, окутанный бесконечным сном. Как Тиресия, прорицателя, не умертвили, а ослепили ревнивые боги того, кто их подслушал. Как Ифигению, священную жертву, не закололи его, а окутали тучей и унесли в Понт духа, в киммерийский мрак чувств. Завеса на его устах, и мрак вокруг его души: еще десятки тусклых лет живет он со смятенным сознанием, «в небесное проданный рабство», потерянный для себя и для мира, и только ритм, тусклая, звучащая волна льется в распыленных, раздробленных звуках с его трепещущих уст (Стефан Цвейг о Гёльдерлине, 1925).
Миф понятен. Можно снимать кино (и его снимали). Миф действительно очень красивый и целостный: Гёльдерлин, забираясь все выше на гору (копая все глубже в яму?) бытия, набрел на какой-то небесный нерв и не смог выдержать непосредственного соприкоснования с предельным или даже запредельным. Его разум разрушился, но в нем, однако, остались мерцать осколки вот этого зеркала, отразившего то, что неведомо простым людям — и в этих осколках (в поздних фрагментарных стихах) до сих пор можно увидеть что-то нуминозно-запретное.
Жертвой подобного же мифологического восприятия через век после Гёльдерлина стал «разорванный Дионисом» Ницше, несомненно, осведомленный о судьбе поэта, а может быть, думавший как раз о нем, когда писал в «Человеческое, слишком человеческое»: «Так как было замечено, что возбужденное состояние часто просветляет голову и вызывает счастливые мысли, то решили, что в состоянии высшего возбуждения человек приобретает самые лучшие мысли и осеняется вдохновением, и потому безумного стали почитать как мудреца и прорицателя. В основе этого лежит ложное умозаключение».
Не так красиво, как миф, но скажем: Гёльдерлин не был избранным пророком, он был человеком с тяжелым расстройством, которому нужна была не существовавшая тогда серьезная медицинская помощь. Скажем далее: его поздние произведения, фрагментарные, более минималистичные, не были осознанным художественным актом, а были выражением патологии, случайно совпавшей с формальными поисками модернистов XX века. Скажем еще: он не боролся с судьбой и миром и не погружался в мистическое молчание — но погрузился в состояние хронической психической деградации.
Что мы делаем здесь, мы просто заменяем одни слова другими? Но нет, понятийно и более важно: миф о Гёльдерлине предполагает, что он совершил экзистенциальный выбор, что его безумие было закономерностью и расплатой, в то время как на самом деле поэт просто стал жертвой личной трагедии и был оставлен на произвол судьбы (а вовсе не избрал путь жреца-отшельника). Здесь ключевая разница в волевом факторе (как и при определении, имеет ли место сознание в принципе). Мы имеем дело с магическим мышлением в его чистом виде, и странно, что оно сохраняло свою силу так долго.
А кем был загадочный Скарданелли, имя, которым уже безумный Гёльдерлин нередко подписывался (в периоды отлива мрака, когда был способен писать)? Темный двойник, заместивший расколотый сосуд эго? Некий Другой, наскоро сработанная маска, на что намекает итальянская экзотичность имени? С последним можно поспорить, время было достаточно вольнодумным и космополитичным, например, у современника поэта, Иоганна Пауля Фридриха Рихтера не было никаких проблем с тем, чтобы подписываться на французский манер «Жан Поль».
Впрочем, важно помнить, что со Скарданелли довольно странная в целом история. С одной стороны — затворник-безумец, сорок лет сидящий в башне, который не мог ни с кем нормально взаимодействовать. С другой — вот такая например байка, которую сообщает опекун поэта, плотник Эрнст Циммер. В районе 1838 года некий назойливый поклонник Гёльдерлина, имя которого история не сохранила, пытался докричаться до затворника в башне, чтобы тот написал новое стихотворение. Докричался: Гёльдерлин в неизменном ночном колпаке открыл окно, уставился на посетителя, затем скрылся внутри и «примерно через 12 минут» (Циммер), без единого слова, вновь возник и швырнул в него листок со стихом, затем захлопнул окно. Вот этот листок:
Открытый день картинами сияет,
Когда видна трава из плоской дали,
И до того, как сумерки упали,
Мерцанье звёзд все звуки дня смягчает.
Мир изнутри порой окутать тучи рады,
Исполнен человек сомненья и досады
И, как природа, жаждет просветленья,
Спеша развеять тёмные сомненья.
Ваш покорный слуга Скарданелли, 24 марта 1671 [sic]
(перевод Владимира Летучего)
Неплохо для шизофреника, да еще за «примерно 12 минут». Неужели он правда просто хотел, чтобы его оставили в покое (как считал Пьер Берто в «Hölderlin, Essai de biographie intérieure», 1936). И/или, может быть, все же речь шла о весьма тяжелой, но временами дающей передышку, перемежающейся форме аффективного расстройства?
«Гиперион», единственный роман (в письмах) Гёльдерлина, написанный накануне безумия, можно в принципе разбирать на психиатрических курсах как ярчайший пример биполярного письма, где настроение автора/рассказчика с чудовищной даже для романтизма скоростью устраивает качели почти на каждой странице. «Отныне наши души общались свободней и прекрасней, и все внутри и вокруг нас равно склоняло к золотой безмятежности..таким одухотворенным и сильным, легким и любящим стало все» через три абзаца без перехода сменяется на «мне казалось, будто некий непостижимый, негаданный рок обрекает нашу любовь на смерть, будто в жизни ничего уже не осталось, кроме меня и моих терзаний», потом это нервное йо-йо летит обратно, и так всю книгу. Что все это нам говорит? Непонятно.
Первые исследования безумия Гёльдерлина с точки зрения передовой тогда психологии тоже весьма проникнуты магическим мышлением и предопределением, обоснованными красивыми греческими словами. Эрнст Кречмер, который с 1925 года написал о поэте, кажется, даже не одну, а несколько работ, находит у Гёльдерлина «гиперэстетическую шизоидную конституцию», с которой произошло «перемещение психэстетической пропорции» и «центра тяжести темперамента». Все это при чтении сегодня не сильно отличается от известных фантазий о меланхолической черной желчи из «Problemata» псевдо-Аристотеля: «многие, по той причине, что этот жар близок к вместилищу ума, оказываются подверженными болезням мании или безумия, что объясняет существование оракулов, предсказателей и вдохновенных людей, когда это состояние обусловлено не болезнью, а естественной смесью», и т. п.
Вместе с тем, нельзя не поставить Кречмеру в заслугу то, что он одним из первых предпринял попытку разрушить представление о безумии Гельдерлина как о «божественном озарении», доказывая, что его состояние имело клинические причины, а не мистическую природу. К значимому изменению восприятия ситуации в культуре, впрочем, это не привело.
Теперь, наверное, главный вопрос. Мы живем уже не в XIX и даже не в XX веке, и романтизм и модернизм к добру или худу были культурой «пройдены» (так принято считать, но не будем тут углубляться в дискуссию). Почему же у нас все еще нет никакой внятной альтернативы такому романтическому восприятию кейсов безумия у творческих людей?
Наверное потому, что настоящее безумие ужасно скучно. Это очевидно любому, кто общался какое-то продолжительное время с настоящими шизофрениками (я общался). Там нет никакого приоткрывающегося просвета бытия, никакого прорыва к корням, никакой поступи проходящих богов и прочей хайдеггеровской чуши. Подлинное безумие изматывающе репетитивно, мелочно, предсказуемо и банально. Это самая приземленная вещь на земле. Безумец не может функционировать не потому, что он выше общества, а потому, что он ниже — любого психически целостного человека, даже ребенка. Он не трансцендирует — он фрагментируется. И совсем не в кислотно-ризомном смысле Делёза/Гваттари, где это типа какой-то другой более панковский способ существования — а в самом буквальном, распадаясь на части без центра.
Если бы Гёльдерлин жил сегодня, ему бы, возможно, поставили шизофрению с негативной симптоматикой (аутизм, эмоциональное обеднение, уход в себя), аффективный психоз с чередованием фаз экзальтации и отстраненности, возможно нашли бы органическую патологию мозга (например нейросифилис). Гёльдерлин бы каждый день принимал таблетки и возможно ему стало бы лучше, и он написал бы автофикшн про свой опыт, например «Как меня поразила молния Аполлона».
Было бы это хорошо? Для него — наверное. Снимает ли это все те вопросы про ускользающее бытие и забвение истины, которые набрасывают на кататоническую мумию поэта его вдохновенные исследователи в своем wishful thinking? Нет, не снимает. Но какой-то серединной интерпретации у нас, увы, нет. Или пророк или шизик, которому нужно в дурку. Ну а какие тут варианты, при всем возможном спектре психических состояний, особенно у творческих людей, безумие (в определении предельного, не частичного, проявления, которое уже неподконтрольно носителю) всегда очевидно. Оно или есть или его нет.
Прямо как с поэзией.
И вот я говорю,
Я был приближен, чтобы созерцать тех небожителей,
Но вдруг они меня швырнули глубоко, на дно людское
Жреца негодного, во мглу, когда я пел
Песнь колокольную, песнь для понятливых.
Там
(Стихотворение не окончено, перевод Николая Болдырева)
Чем именно болел Гёльдерлин мы никогда не узнаем. Заочные диагнозы с высоты прошедших столетий: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз или поздняя стадия сифилиса. Так или иначе, в силу ряда различных факторов эта довольно печальная история одного конкретного безумия впоследствии была поднята на щит — и из личной трагедии Гёльдерлина превратилась в символ, в метафизическую шараду, которая вдохновляла или как минимум повлияла на несколько поколений творцов.
Не будет большой натяжкой сказать, что наследием кейса Гёльдерлина является и культурное восприятие таких бесконечно далеких и от него и друг от друга фигур как, например, Александр Гротендик или Сид Барретт — которые также после краткого периода очень интенсивного в своей гениальности творчества удалились от мира и жили последние 40 лет в уединении, проявляя при этом несомненные признаки психического расстройства.
Если бы подобное произошло с булочником или пожарным, никому не было бы дела — но когда с ума сходит поэт/музыкант/математик, это сразу обрастает — до сих пор! — таким характерным флером: мол, конечно, как не сойти с ума, как жить дальше в этом фальшивом мире, когда ты заглянул на ту сторону…
Кто задал эти рамки? По Хайдеггеру, Гёльдерлин был «поэтом бытия», который не выдержал столкновения с абсолютной реальностью. Адорно и Лукач (ожидаемо) находили в поэте критика буржуазного рационализма и прото-борца с капиталом. Фуко перечисляет Гёльдерлина (через запятую с Нервалем и Арто) в число тех, чье безумие стало способом «говорить о реальности иначе», вернувшись к первичной гармонии (если ее можно так назвать) «неразумия». И так далее, и тому подобное.
Год спустя, после того, как Гёльдерлин, настигнутый безумием, вернулся в материнский дом, он писал тому же своему другу, вспоминая пребывание во Франции: «Эта могучая стихия, небесный огонь и людская тишина, их жизнь в природе, равно их ограниченность и довольство, неизменно захватывали и трогали меня, и если говорить о героях, могу, пожалуй, сказать, что меня-то сразил Аполлон» (V, 327). Сверхмощное свечение столкнуло поэта во тьму. Нужны ли еще свидетельства высочайшей опасности его «ремесла»? Своеобразнейшая судьба поэта более чем красноречива (Мартин Хайдеггер, «О поэтах и поэзии», 1936).
Еще цветут его уста, еще бродит его стареющее тело по немецкой земле, еще блуждает его взор по любимому ландшафту долины Неккара, еще возносит он благоговейный взор к «отцу эфиру», к вечному небосклону, — но ум его угас, окутанный бесконечным сном. Как Тиресия, прорицателя, не умертвили, а ослепили ревнивые боги того, кто их подслушал. Как Ифигению, священную жертву, не закололи его, а окутали тучей и унесли в Понт духа, в киммерийский мрак чувств. Завеса на его устах, и мрак вокруг его души: еще десятки тусклых лет живет он со смятенным сознанием, «в небесное проданный рабство», потерянный для себя и для мира, и только ритм, тусклая, звучащая волна льется в распыленных, раздробленных звуках с его трепещущих уст (Стефан Цвейг о Гёльдерлине, 1925).
Миф понятен. Можно снимать кино (и его снимали). Миф действительно очень красивый и целостный: Гёльдерлин, забираясь все выше на гору (копая все глубже в яму?) бытия, набрел на какой-то небесный нерв и не смог выдержать непосредственного соприкоснования с предельным или даже запредельным. Его разум разрушился, но в нем, однако, остались мерцать осколки вот этого зеркала, отразившего то, что неведомо простым людям — и в этих осколках (в поздних фрагментарных стихах) до сих пор можно увидеть что-то нуминозно-запретное.
Жертвой подобного же мифологического восприятия через век после Гёльдерлина стал «разорванный Дионисом» Ницше, несомненно, осведомленный о судьбе поэта, а может быть, думавший как раз о нем, когда писал в «Человеческое, слишком человеческое»: «Так как было замечено, что возбужденное состояние часто просветляет голову и вызывает счастливые мысли, то решили, что в состоянии высшего возбуждения человек приобретает самые лучшие мысли и осеняется вдохновением, и потому безумного стали почитать как мудреца и прорицателя. В основе этого лежит ложное умозаключение».
Не так красиво, как миф, но скажем: Гёльдерлин не был избранным пророком, он был человеком с тяжелым расстройством, которому нужна была не существовавшая тогда серьезная медицинская помощь. Скажем далее: его поздние произведения, фрагментарные, более минималистичные, не были осознанным художественным актом, а были выражением патологии, случайно совпавшей с формальными поисками модернистов XX века. Скажем еще: он не боролся с судьбой и миром и не погружался в мистическое молчание — но погрузился в состояние хронической психической деградации.
Что мы делаем здесь, мы просто заменяем одни слова другими? Но нет, понятийно и более важно: миф о Гёльдерлине предполагает, что он совершил экзистенциальный выбор, что его безумие было закономерностью и расплатой, в то время как на самом деле поэт просто стал жертвой личной трагедии и был оставлен на произвол судьбы (а вовсе не избрал путь жреца-отшельника). Здесь ключевая разница в волевом факторе (как и при определении, имеет ли место сознание в принципе). Мы имеем дело с магическим мышлением в его чистом виде, и странно, что оно сохраняло свою силу так долго.
А кем был загадочный Скарданелли, имя, которым уже безумный Гёльдерлин нередко подписывался (в периоды отлива мрака, когда был способен писать)? Темный двойник, заместивший расколотый сосуд эго? Некий Другой, наскоро сработанная маска, на что намекает итальянская экзотичность имени? С последним можно поспорить, время было достаточно вольнодумным и космополитичным, например, у современника поэта, Иоганна Пауля Фридриха Рихтера не было никаких проблем с тем, чтобы подписываться на французский манер «Жан Поль».
Впрочем, важно помнить, что со Скарданелли довольно странная в целом история. С одной стороны — затворник-безумец, сорок лет сидящий в башне, который не мог ни с кем нормально взаимодействовать. С другой — вот такая например байка, которую сообщает опекун поэта, плотник Эрнст Циммер. В районе 1838 года некий назойливый поклонник Гёльдерлина, имя которого история не сохранила, пытался докричаться до затворника в башне, чтобы тот написал новое стихотворение. Докричался: Гёльдерлин в неизменном ночном колпаке открыл окно, уставился на посетителя, затем скрылся внутри и «примерно через 12 минут» (Циммер), без единого слова, вновь возник и швырнул в него листок со стихом, затем захлопнул окно. Вот этот листок:
Открытый день картинами сияет,
Когда видна трава из плоской дали,
И до того, как сумерки упали,
Мерцанье звёзд все звуки дня смягчает.
Мир изнутри порой окутать тучи рады,
Исполнен человек сомненья и досады
И, как природа, жаждет просветленья,
Спеша развеять тёмные сомненья.
Ваш покорный слуга Скарданелли, 24 марта 1671 [sic]
(перевод Владимира Летучего)
Неплохо для шизофреника, да еще за «примерно 12 минут». Неужели он правда просто хотел, чтобы его оставили в покое (как считал Пьер Берто в «Hölderlin, Essai de biographie intérieure», 1936). И/или, может быть, все же речь шла о весьма тяжелой, но временами дающей передышку, перемежающейся форме аффективного расстройства?
«Гиперион», единственный роман (в письмах) Гёльдерлина, написанный накануне безумия, можно в принципе разбирать на психиатрических курсах как ярчайший пример биполярного письма, где настроение автора/рассказчика с чудовищной даже для романтизма скоростью устраивает качели почти на каждой странице. «Отныне наши души общались свободней и прекрасней, и все внутри и вокруг нас равно склоняло к золотой безмятежности..таким одухотворенным и сильным, легким и любящим стало все» через три абзаца без перехода сменяется на «мне казалось, будто некий непостижимый, негаданный рок обрекает нашу любовь на смерть, будто в жизни ничего уже не осталось, кроме меня и моих терзаний», потом это нервное йо-йо летит обратно, и так всю книгу. Что все это нам говорит? Непонятно.
Первые исследования безумия Гёльдерлина с точки зрения передовой тогда психологии тоже весьма проникнуты магическим мышлением и предопределением, обоснованными красивыми греческими словами. Эрнст Кречмер, который с 1925 года написал о поэте, кажется, даже не одну, а несколько работ, находит у Гёльдерлина «гиперэстетическую шизоидную конституцию», с которой произошло «перемещение психэстетической пропорции» и «центра тяжести темперамента». Все это при чтении сегодня не сильно отличается от известных фантазий о меланхолической черной желчи из «Problemata» псевдо-Аристотеля: «многие, по той причине, что этот жар близок к вместилищу ума, оказываются подверженными болезням мании или безумия, что объясняет существование оракулов, предсказателей и вдохновенных людей, когда это состояние обусловлено не болезнью, а естественной смесью», и т. п.
Вместе с тем, нельзя не поставить Кречмеру в заслугу то, что он одним из первых предпринял попытку разрушить представление о безумии Гельдерлина как о «божественном озарении», доказывая, что его состояние имело клинические причины, а не мистическую природу. К значимому изменению восприятия ситуации в культуре, впрочем, это не привело.
Теперь, наверное, главный вопрос. Мы живем уже не в XIX и даже не в XX веке, и романтизм и модернизм к добру или худу были культурой «пройдены» (так принято считать, но не будем тут углубляться в дискуссию). Почему же у нас все еще нет никакой внятной альтернативы такому романтическому восприятию кейсов безумия у творческих людей?
Наверное потому, что настоящее безумие ужасно скучно. Это очевидно любому, кто общался какое-то продолжительное время с настоящими шизофрениками (я общался). Там нет никакого приоткрывающегося просвета бытия, никакого прорыва к корням, никакой поступи проходящих богов и прочей хайдеггеровской чуши. Подлинное безумие изматывающе репетитивно, мелочно, предсказуемо и банально. Это самая приземленная вещь на земле. Безумец не может функционировать не потому, что он выше общества, а потому, что он ниже — любого психически целостного человека, даже ребенка. Он не трансцендирует — он фрагментируется. И совсем не в кислотно-ризомном смысле Делёза/Гваттари, где это типа какой-то другой более панковский способ существования — а в самом буквальном, распадаясь на части без центра.
Если бы Гёльдерлин жил сегодня, ему бы, возможно, поставили шизофрению с негативной симптоматикой (аутизм, эмоциональное обеднение, уход в себя), аффективный психоз с чередованием фаз экзальтации и отстраненности, возможно нашли бы органическую патологию мозга (например нейросифилис). Гёльдерлин бы каждый день принимал таблетки и возможно ему стало бы лучше, и он написал бы автофикшн про свой опыт, например «Как меня поразила молния Аполлона».
Было бы это хорошо? Для него — наверное. Снимает ли это все те вопросы про ускользающее бытие и забвение истины, которые набрасывают на кататоническую мумию поэта его вдохновенные исследователи в своем wishful thinking? Нет, не снимает. Но какой-то серединной интерпретации у нас, увы, нет. Или пророк или шизик, которому нужно в дурку. Ну а какие тут варианты, при всем возможном спектре психических состояний, особенно у творческих людей, безумие (в определении предельного, не частичного, проявления, которое уже неподконтрольно носителю) всегда очевидно. Оно или есть или его нет.
Прямо как с поэзией.
И вот я говорю,
Я был приближен, чтобы созерцать тех небожителей,
Но вдруг они меня швырнули глубоко, на дно людское
Жреца негодного, во мглу, когда я пел
Песнь колокольную, песнь для понятливых.
Там
(Стихотворение не окончено, перевод Николая Болдырева)