Дэвид Берман
(перевод с английского
Паши Автоменко-Прайса)
ПАША аВТОМЕНКО-ПРАЙС
поэт, переводчик, редактор, искусствовед.
Родился в 2001 году в Перми, проживает там же.
Публиковался в журналах и зинах: «журнал на коленке», «Русский Пионер»,
местном зине «NEON ROOMS», на портале «полутона».
поэт, переводчик, редактор, искусствовед.
Родился в 2001 году в Перми, проживает там же.
Публиковался в журналах и зинах: «журнал на коленке», «Русский Пионер»,
местном зине «NEON ROOMS», на портале «полутона».
дэвид берман
имя при рождении — Дэвид Крэйг Берман.
американский поэт, музыкант и художник,
известный участием в музыкальной группе "Silver Jews".
Родился 4 января 1967 года в Вильямсбурге (штат Виргиния).
Умер 7 августа 2019 года в возрасте 52 лет.
имя при рождении — Дэвид Крэйг Берман.
американский поэт, музыкант и художник,
известный участием в музыкальной группе "Silver Jews".
Родился 4 января 1967 года в Вильямсбурге (штат Виргиния).
Умер 7 августа 2019 года в возрасте 52 лет.
"Ковбойский переполох сердца"
Представление поэзии Дэвида Бермана в академическом пространстве требует внимания к уникальному синтезу поколений, который она представляет. Берман, чей голос сформировался на стыке поздне-модернистских течений и постмодернистской чувствительности конца XX века, создал (хоть и небольшой) корпус работ, заслуживающий серьезного филологического рассмотрения.
Его стихи, часто ошибочно сводясь лишь к «музыкальности» или, наоборот, к стыку прозы и поэзии, при этом демонстрируют сложную работу с языком, где разговорная простота обманчива и служит носителем глубокой, структурированной поэтики.
Берман мастерски оперирует парадоксом и напряжением: между возвышенным и банальным, трагическим и комическим, лирической интенсивностью и нарочитой сдержанностью, почти документальной. Его поэтический метод можно рассматривать в русле традиций, идущих от Мэри Оливер или Элизабет Бишоп с ее «искусством потери» и пристальным вниманием к обыденным деталям, наделенным метафизическим весом. Однако его ирония и отстраненность, его погружение в поп-культурный ландшафт и материи повседневности (супермаркеты, дешевые мотели, телевидение) сближают его и с Джоном Эшбери, или его протеже Джеймсом Тейтом, и нью-йоркской школой, с их апологией неопределенности, коллажа сознания и включения массовой культуры в ткань актуальной поэзии.
Берман, как певец полуночных супермаркетов, заправок и придорожных кафе или, как называли его друзья, «амбассадором тех, о ком обычно вытирают ноги», прекрасно смешивает разговорные идиомы, сленг, клише и поп-культуру, внедряя их в свою «усталую проницательность». Его лирический герой — вечный аутсайдер, неудачник и мечтатель, бродящий по задворкам жизни, но сохраняющий способность удивляться и чувствовать боль – а значит, и быть живым. Честность для него выше поэтического пафоса.
И, на мой взгляд, именно в этом уникальном голосе состоит его сила.
Его стихи, часто ошибочно сводясь лишь к «музыкальности» или, наоборот, к стыку прозы и поэзии, при этом демонстрируют сложную работу с языком, где разговорная простота обманчива и служит носителем глубокой, структурированной поэтики.
Берман мастерски оперирует парадоксом и напряжением: между возвышенным и банальным, трагическим и комическим, лирической интенсивностью и нарочитой сдержанностью, почти документальной. Его поэтический метод можно рассматривать в русле традиций, идущих от Мэри Оливер или Элизабет Бишоп с ее «искусством потери» и пристальным вниманием к обыденным деталям, наделенным метафизическим весом. Однако его ирония и отстраненность, его погружение в поп-культурный ландшафт и материи повседневности (супермаркеты, дешевые мотели, телевидение) сближают его и с Джоном Эшбери, или его протеже Джеймсом Тейтом, и нью-йоркской школой, с их апологией неопределенности, коллажа сознания и включения массовой культуры в ткань актуальной поэзии.
Берман, как певец полуночных супермаркетов, заправок и придорожных кафе или, как называли его друзья, «амбассадором тех, о ком обычно вытирают ноги», прекрасно смешивает разговорные идиомы, сленг, клише и поп-культуру, внедряя их в свою «усталую проницательность». Его лирический герой — вечный аутсайдер, неудачник и мечтатель, бродящий по задворкам жизни, но сохраняющий способность удивляться и чувствовать боль – а значит, и быть живым. Честность для него выше поэтического пафоса.
И, на мой взгляд, именно в этом уникальном голосе состоит его сила.
Паша Автоменко-Прайс
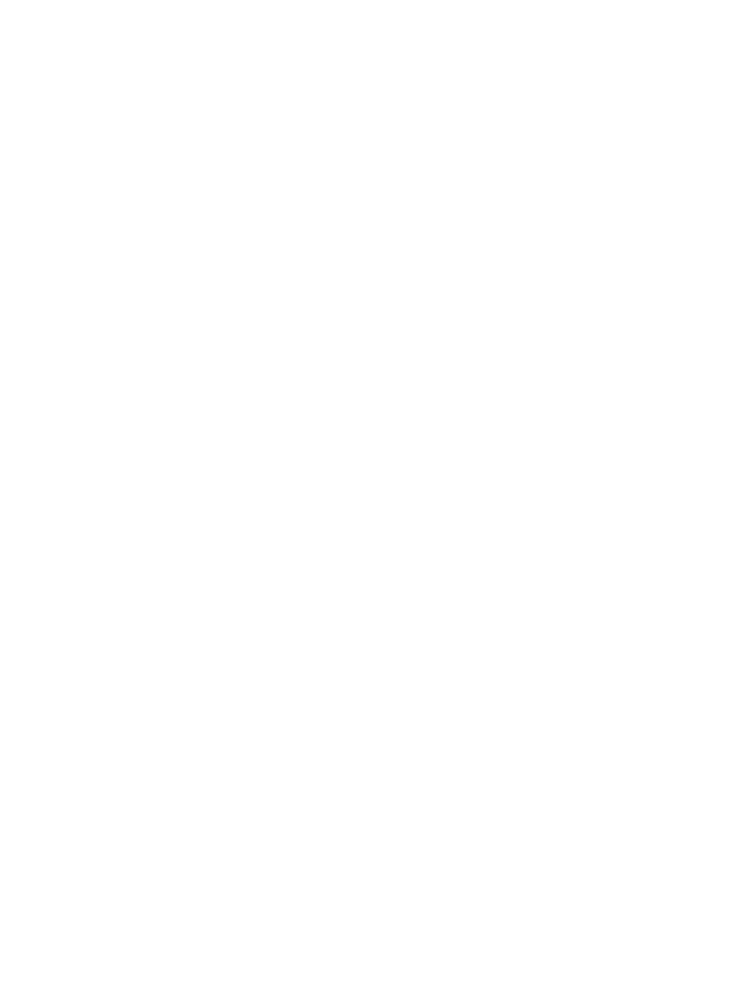
Автопортрет в двадцать восемь лет
1.
Знаю, это не самое лучшее название для стиха,
но это вроде подарка самому себе
в день, оттесненный солнечным светом,
Когда холм целиком приближается
к особому идеалу Вирджинии,
Заросший золотарником и соснами,
Думаю — «Зато не проснулся с окровавленным ножом в руках»,
К тому времени уже одиноко блуждая в ста ярдах от дома,
Всё ещё сидя в кресле с закрытыми глазами.
Это именно такой холм,
который я представляю, когда слышу слово «холм»,
Если апокалипсис окажется подобием всемирного нервного срыва,
если пять миллиардов наших умов разом будут уничтожены,
что ж, я скажу, что такая развязка весьма неожиданна.
И холм этот по-прежнему будет восхитительным местом, где я не против и умереть в одиночестве или вместе с тобой.
Я пытаюсь прийти к чему-то,
говоря с тобой максимально откровенно,
дабы честность могла
успокоить, утешить нас.
Видишь, около моего стола есть окно, в которое смотрю, когда
чувствую, что совсем встрял,
Хотя взгляд на улицу редко вдохновляет меня,
я всё же не знаю, почему продолжаю смотреть туда.
В моём детстве тоже не особо много достойного материала для этих писательских дел,
в основном мульча белесых минут с парочкой действительно особенных моментов:
то, как пускал смоляные пузыри на подъездной дорожке летом,
особая, странная гордость за свою школу, когда они называли её «солнце наше», и игра в футбол,
когда единственным вариантом было «отсутствовать как можно дольше» — вот что вспоминается сейчас.
Если выдавлю чуть больше информации, то мне ещё помнятся старые радиоприемники с часами,
где металлические цифры
перелистывались,
и блюдо под названием
серф энд терф.
Чтобы вернуться к истокам своим, каждую ночь я заводил будильник на то время, когда родился,
пробуждение превращалось
в историческую реконструкцию.
И первое, что я делал,
пытался рассмотреть этот день,
влиться в его течение, это словно катание на механическом быке, когда пытаешься
вычислить точный паттерн
его поведения и больше не сопротивляться ему.
2.
Я не помню своего рождения,
и вряд ли кто-то другой может вспомнить, даже доктор,
которого я встретил
много лет спустя
на коктейльной вечеринке.
Это одно из тех маленьких разочарований, заставляющих задуматься о резком переезде
куда-нибудь в Холли-Спрингс или Корал-Гейбс и желании снять комнату на площади у хозяйки,
чьи руки покрыты дезинфицирующим средством,
рассказывая людям
которых встречаете, что вы приехали с Аляски, внимательно слушая,
что они расскажут об Аляске,
пока не узнаете о ней больше,
чем когда-нибудь могли бы узнать о Холли-Спрингс или Корал-Гейбс.
Иногда я покупаю газету в незнакомом городе и думаю:
«Ну, посмотрим, каково здесь живётся».
Часто в газете пишут о жалобах домовладельцев, проживающих рядом с аэропортом,
и я понимаю, что читаю точно такие же статьи как минимум раз в год, всегда наблюдая одну и ту же картину:
Поздним вечером я лежу в своей постели, в доме около аэропорта,
слушаю, как над головой пролетают самолёты,
рядом спит незнакомая жена.
В моём воображении спальня лишь сплав рекламных наборов лекарств от простуды
(и на тумбочке всегда лежит коробка с бумажными платками).
Я знаю, все эти повторяющиеся статьи — почти подсказки,
недостаток дизайна, пускай
я ещё и не понял, как именно
могу связать их между собой.
Но замечаю, что одни и те же люди умирают снова и снова,
например, Минни Пёрл,
что умерла уже четыре раза
за четыре года.
3.
Сегодня первый день Великого поста, и я вновь не особо
понимаю, что это вообще такое.
Сколько лет пройдёт, прежде
чем я возьмусь спросить у кого-нибудь об этом?
Вспомнилось сегодняшнее утро, когда ты собиралась на работу.
Я сидел у обогревателя,
в оцепенении глядя на то,
как ты переодеваешься,
и когда ты спросила,
почему я никогда не ношу халат,
у меня было так много веских причин, но я не знал, с какой мне начать.
Если ты был крутым в старшей школе, то никогда не задавал
много вопросов.
Ты мог сказать, кто был на вчерашнем концерте большой металл-группы
по новым футболкам,
мелькавшим в коридорах.
И это было крутостью:
способность делать вывод,
знать всё, без лишних вопросов.
А весь этот выпендрёж,
попытки имитировать крутость,
представляют собой лишь то, что
ты не задаёшь вопросов,
ничего не знаешь, вот почему
дети становятся всё тупее.
Последние страницы школьных ежегодников, переполненные
обещаниями оставаться на связи — ещё одно доказательство
бесполезности подростковых
обещаний. Не то что б я
особо страдал из-за письма от одноклассника-укурка спустя
десять лет, но…
Помнишь, как девчонки
кричали «люблю тебя»!
при этом упуская «Я»,
будто оттягивая
полноценное признание.
Согласен, «Я» — довольно тяжёлый концепт для понимания, так что надеюсь, я не доставлю вам неудобств, погружаясь поглубже в этот вопрос.
4.
Есть вещи, от которых я попросту отказался, например,
запись забавных
сообщений на автоответчик.
Это часть взросления,
и всё человечество в целом
взрослеет таким же образом.
Кажется, наша комедия
стареет быстрее всех.
Если вы смеётесь над шутками Шекспира, то надеюсь, вас
не обидит, когда я скажу,
что вы слишком стараетесь.
Даже скетчи из оригинального
Saturday Night Live сейчас
кажутся слишком глупыми
и очевидными.
Прогресс неудержим.
Сегодня дети
не могут установить
киоск с лимонадом.
Всё это заставляет людей
слишком сильно стесняться
собственного прошлого, хотя
попробуй ещё объяснить
подобное ребёнку.
Я не говорю, что именно так и должно быть.
Все эти новые технологии
в конечном счёте дадут нам
новые чувства, те никогда
не смогут вытеснить старые,
и все будут чувствовать себя
неуютно, нервно, по сути
разделенными надвое.
Мы отправимся на Марс,
когда люди на земле всё ещё
будут вскрывать
пачку чипсов зубами.
Почему? У меня нет такого количества знаний и времени,
чтоб установить все связи,
как у моего друга Гордона
(это правдивая история),
который вырос в Брейнтри,
штат Массачусетс, но никогда
не представлял себе мозг,
зацепившийся за дерево*,
пока я не заговорил об этом.
Он вообще не разбивал название города на две части.
Но тогда уже было поздно.
Он переехал в Корал-Гейбс.
5.
Холм за моим окном всё так же прекрасен,
залитый золотом светом,
как тот, что сияет в Национальном парке,
кажется, он говорит мне:
Жаль, что мир, вероятно,
не сможет вынести ещё одно стихотворение об Орфее,
но в принципе я свободен, если,
конечно, ты не работаешь
над автопортретом
или типа того.
Наблюдаю за своим псом,
Ему опять снится кошмар, он дёргается и скулит на полу, пытаюсь
представить, какой зверь
загнал его в угол на том лугу,
где он видит свои сны.
Я принимаю этот день таким, какой он есть: местом, где
куча вещей может собраться
вместе и найти синергию
друг с другом — даже не местом,
а поводом, реальностью
для реальных вещей.
Друзья предупреждали, чтобы я особо не увлекался с психоделикой
или религией конкретно
в этом стихе:
«Его не очень примут, если он
будет слишком психоделичным
или вовсе религиозным», но это
более чем важные темы,
как по мне,
мой пёс дёргается на полу, возможно, наблюдая меня
в своём сне — ту часть меня, которая избила бы пса
без какой-то причины,
без той причины, которую пёс
может осознать, принять.
Я пытаюсь написать что-то очень простое, поэтому приходится говорить
максимально прямо,
чтобы слова не смогли
изуродовать этот текст,
и если всё, что я говорю,
в конечном счёте —
окажется ложью,
то пусть хотя бы она будет
абсолютно безвредной,
как дырявая лодка в камышах,
которая никому не мешает.
6.
Я не могу доверять своим воспоминаниям, многие из них
смешались с сентиментальными
рекламами мобильников и маргарина, наверняка испорченными Мэдисон-Авеню
хотя, кто сейчас называет мир всей этой рекламы «Мэдисон-Авеню».
Может, они переехали?
Нужно разузнать поточнее.
Но не сейчас, сейчас есть дела поважнее.
Я выхожу на холм за нашим домом, он выглядит таким Аляскинским сегодня, было бы
куда легче объяснить вам,
если бы у меня была с собой фотография,
но я бродил с нашим псом, бежавшим по высокой траве,
будто эта пробежка —
и есть сама жизнь, до тех пор
пока он не услышит птицу
или не найдёт пустую банку из-под пива и они вместе заполнят
всё пространство его сознания.
Думаю, суть в том,
что его разум может вместить
только одну мысль за раз, и когда
он наконец слышит, как я окликаю его, он поднимает глаза
и качает своей головой.
В это мгновение мой голос становится абсолютно всем на свете:
Автопортрет в двадцать восемь лет.
*Достаточно простая игра слов с разделением топонима на два слова Brain (Мозг) и Tree (Дерево).
Ковбойский переполох в сердце
Мы избираем этот вечер,
Накатывая небольшую усталость.
Слишком рано — слишком поздно.
Волны идут, словно горные цепи:
Связанные невозможности,
Ветвистые возможности.
Я постоянно вижу огонь
Там, где его быть не должно —
В пустой библиотеке за ужином
Или в дышащей двери подвала.
Пёс ест из старого бубна на полу.
Мне говорили, можно долго прожить
На одной лишь собачьей верности,
И что когда люди неправы совсем,
Всё становится вдруг слишком
Скверным, горьким, и сон можно
Получить лишь за бесценок.
Уже позже, тем же днём,
Когда не остаётся и выбора,
Когда ремень безопасности
Дарит тебе единственные объятия
За долгие недели, и куча неверных цифр стала всей твоей жизнью
в социуме.
Запутанные стратегии дикой природы
Что лишь сбивают тебя с толку, малыш.
Я впервые встретил её в огромном магазине:
Радужная ворона, рождённая в невесомости,
Похожая на пластиковую траву из пасхальной корзинки
Или падение с эстакады,
Исполнение того пророчества, что ты получил ещё в десятом классе.
Настоящий шедевр мотеля,
Что совсем слеп к ветвистым возможностям
И связанным невозможностям.
Слезы тогда застыли в моих глазах,
Как лань, что вот-вот убежит,
Будто я протянул руку через кошачью дверцу в рай.
Я думал, что могу слизывать глазурь с этих летних деньков,
Если ночи будут хотя бы наполовину такими же сладкими.
Я был похож на побитого пса,
Качающегося туда-сюда.
Я обожал то, как она преображала каждое моё утро,
Когда просыпался на тихих отмелях её кровати,
Кувырков дыма и вселенной мокрого снега,
До того, как она полностью исчезла, вернувшись к истокам.
Теперь каждая задняя мысль выходит из-под контроля.
Наверное, в каком-то смысле, я стремлюсь быть крутым.
Рядом с ней грустить казалось кощунством.
Я говорил о том, как ко мне пришел ангел и заткнул меня?
В её голосе тоже чувствовались улыбка и слёзы.
Она научила меня зажигать,
Зажигать, зажигать всё вокруг себя снова и снова.
Они говорили мне, как долго можно прожить на одной только собачьей любви.
Всё становится вдруг горьким и скверным,
И поспать удаётся лишь под самый конец дня,
Когда выбора уже и не остаётся.
Прошу, позволь твоим глазам вновь стать моими друзьями.
Все мои слезы — лишь неисправность.
Ковбойский переполох в сердце.
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Там второй Нью-Йорк строят
чуть западнее старого.
Никто не спрашивает, зачем нужен ещё один, — они просто берут и строят его.
Город всё ещё закрыт для всех,
кроме рабочих бригад; они уверяют, что это идеальная зеркальная копия.
По правде говоря, каждый мужчина,
который работает над точной копией собственного дома,
добавляет всё новые элементы,
например: распылители одеколона;
рокарии или дверные ручки,
что предназначались для пятизвёздочных отелей.
Все эти улучшения тут и там, их делают, само собой, скрытно и не по правилам.
Никто из начальства, впрочем, не возражает.
У всех отличное настроение: рабочие шутят, болтают и прогуливаются по этим тихим улицам, которые единственный
допущенный на объект репортёр описал как:
«пресноватые, навевающие воспоминания о тяжёлом прошлом старого города, но от которых исходит какой-то особый голубоватый аромат первых дней существования планеты».
Мужчины начинают любить этот мирный городок.
Возвращаться домой им становится всё тяжелее,
и их жёны начинают переживать.
Желтые супы холоднее, закаты наступают быстрее.
Они устраивают долгие перерывы на пожарных лестницах,
махая рукой сквозь пространство тишины другим рабочим,
что уселись и медитируют.
Пока однажды...
Небо вдруг не заполнилось обугленными облаками.
Пояса с инструментами позвякивают на усиливающемся ветру.
Что-то не так.
Бригадир стоит на проспекте и направляет свой бинокль на массивную серую точку,
движущуюся в нашу сторону с востока.
Хор голосов спрашивает: «Ну что? Что это?»
«Голуби!» — кричит он им сквозь порывы ветра.
Классическая вода
Я помню, Китти сказала мне — мы разделяем то глубокое желание получить утешительный приз, смеясь, будто ополаскивая дилижанс.
Я помню ту ночь, когда мы разбили палатку в лагере и я услышал,
как она прошептала:
«думай обо мне как о месте»
из своего спального мешка
с принтом кентавра.
Помню, как в мастерской её отца
мы приняли сигнал неизвестного мужчины, что рыдал сквозь короткие радиоволны
и ночь, когда мы накурились так сильно, что убедили себя — дорога лишь голограмма,
проецируемая лучами фар.
Я помню, она предложила всем нам голосовать за то, что мы будем
делать дальше и помню тот раз,
когда она сказала:
«вся вода должна быть классической»* и смущённо отвернулась.
На матчах по волейболу
её родители сидели на трибунах,
словно послы из Индианы, во всей
своей среднезападной слащавой сентиментальности.
Она была так подавлена, когда их
арестовали за управление частной судебной системой
на территории США.
Порой я просыпаюсь среди ночи
от грохота тележки с едой в номерах отелей и я вспоминаю Китти.
Вспоминаю летние вечера у правительственного озера,
проведённые в беседах о парадоксе множественных Санта-Клаусов или о том, как
ощущается разбитое сердце.
Я до сих пор чувствую эту странную опустошенность в День Труда, когда лето заканчивается
и вспоминаю, что всегда называл её парней «как-его-там?», что было попросту некрасиво, и я хотел бы извиниться
перед ними сейчас, где бы они ни были:
Никто не заслужил того, чтобы его называли «как-его-там?».
*Берман отсылается к лозунгу Кока-Колы после их провальной рекламной кампании и смены оригинального вкуса, лозунг (и вообще весь прецедент с All Coke Should Be Classic Coke) представлял собой возвращение к корням и по сути происходил именно во время студенчества Бермана, о котором он вспоминает в этом стихотворении, так что такой перевод скорее всего менее поэтичный, но куда более верный.
Прекрасные глаза
Каждый хочет, чтобы с холма ему открывался красивый вид,
Но желаниям каждого не дано пересечь подоконника.
Среди ночи я вижу тебя в твоей комнате:
Фотографии на стенах твоих,
Небольшие лесные сценки и Хэллоуин ещё времен старшей школы.
Но это не то, что приходит тебе на ум.
Совсем не то, о чём думаешь ты.
Мечты всех домов — на чертежах.
Наши дома так умеют мечтать.
Снаружи ты следы мои видишь:
Я во дворе твоём мирно спал.
Эти дни когда-нибудь закончатся.
Свет будет искривляться в кухонном окне.
Ты будешь резать тыкву, и кто-то за столом скажет:
«Это не жизнь! Это не то, чего я так ждал!»
Слоны очень стесняются своего размера,
Так что, поливая из шланга их,
Я говорю им: «У вас такие прекрасные глаза».
На заднем дворе я любил играть в ковбоев:
Я сажал своего пса перед обручем и говорил: «Давай, мальчик! Давай!»
Когда у губернатора случится инфаркт,
Птица нашего штата с ветки своей упадёт.
На самых высоких холмах ада растут сосульки.
Тем временем дома, на ранчо моём,
Я по-прежнему встаю раньше всех
И не знаю, есть ли на свете место лучше, чем это.
Я верю, что звёзды — свет ангельских фар.
Они едут к нам с самого рая, чтобы спасти нас.
Взгляни на небо: они летят прямиком оттуда в наши глаза.
И, знаешь, мне так трудно подобрать последние слова.
Я обещаю, что всегда буду помнить твои прекрасные глаза,
Твои прекрасные глаза.
Свастика на лошадиных ногах
Напившись на диване в Нэшвилле, в дюплексе — там
где стоял резервуар, воспринимаю
каждую мысль — как удар
по лицу, словно кролик, что
на своей звезде замерзал,
На той стороне воскресного утра
На части разбит в жутком свете ,
Работая в обанкротившемся цирке — по ту сторону ночи субботней,
Я хочу быть подобным воде,
Ведь воде попросту всё равно,
Ей всё равно всегда и везде,
В побеге от плавающего топора
Не могу просто отстрелиться
И вернуться назад, расскажу
об этих обоях такое — нет, ты
не хотел бы и знать
Но в долине есть алтарь,
Для вещей в том виде,
В каком они предстают,
В триумфе обстоятельств над волей,
В свастике на лошадиных ногах *
Мне бы прокатиться сейчас
На огромной солнечной птице
До самой высшей точки,
До самой высшей точки,
И если смогу наконец-то
Стать подобным воде,
Ведь ей плевать на всё,
Ей нет дела до всех.
*Берман противопоставляет пасторальную чистую картину преступлениям нацизма, отсылаясь к "Триумфу Воли" — пропагандистской картине времён второй мировой, говоря о том что победил "Триумф обстоятельств". Сюда же и ложится образ свастики на лошадиных ногах. Многие говорят о том, что здесь лирический герой переходит от состояния похмелья в осознанность и трансцендентность. Поток реальности и истории беспрерывен, красота торжествует, пускай и на мгновение она может стать жестокой и ужасной.
1.
Знаю, это не самое лучшее название для стиха,
но это вроде подарка самому себе
в день, оттесненный солнечным светом,
Когда холм целиком приближается
к особому идеалу Вирджинии,
Заросший золотарником и соснами,
Думаю — «Зато не проснулся с окровавленным ножом в руках»,
К тому времени уже одиноко блуждая в ста ярдах от дома,
Всё ещё сидя в кресле с закрытыми глазами.
Это именно такой холм,
который я представляю, когда слышу слово «холм»,
Если апокалипсис окажется подобием всемирного нервного срыва,
если пять миллиардов наших умов разом будут уничтожены,
что ж, я скажу, что такая развязка весьма неожиданна.
И холм этот по-прежнему будет восхитительным местом, где я не против и умереть в одиночестве или вместе с тобой.
Я пытаюсь прийти к чему-то,
говоря с тобой максимально откровенно,
дабы честность могла
успокоить, утешить нас.
Видишь, около моего стола есть окно, в которое смотрю, когда
чувствую, что совсем встрял,
Хотя взгляд на улицу редко вдохновляет меня,
я всё же не знаю, почему продолжаю смотреть туда.
В моём детстве тоже не особо много достойного материала для этих писательских дел,
в основном мульча белесых минут с парочкой действительно особенных моментов:
то, как пускал смоляные пузыри на подъездной дорожке летом,
особая, странная гордость за свою школу, когда они называли её «солнце наше», и игра в футбол,
когда единственным вариантом было «отсутствовать как можно дольше» — вот что вспоминается сейчас.
Если выдавлю чуть больше информации, то мне ещё помнятся старые радиоприемники с часами,
где металлические цифры
перелистывались,
и блюдо под названием
серф энд терф.
Чтобы вернуться к истокам своим, каждую ночь я заводил будильник на то время, когда родился,
пробуждение превращалось
в историческую реконструкцию.
И первое, что я делал,
пытался рассмотреть этот день,
влиться в его течение, это словно катание на механическом быке, когда пытаешься
вычислить точный паттерн
его поведения и больше не сопротивляться ему.
2.
Я не помню своего рождения,
и вряд ли кто-то другой может вспомнить, даже доктор,
которого я встретил
много лет спустя
на коктейльной вечеринке.
Это одно из тех маленьких разочарований, заставляющих задуматься о резком переезде
куда-нибудь в Холли-Спрингс или Корал-Гейбс и желании снять комнату на площади у хозяйки,
чьи руки покрыты дезинфицирующим средством,
рассказывая людям
которых встречаете, что вы приехали с Аляски, внимательно слушая,
что они расскажут об Аляске,
пока не узнаете о ней больше,
чем когда-нибудь могли бы узнать о Холли-Спрингс или Корал-Гейбс.
Иногда я покупаю газету в незнакомом городе и думаю:
«Ну, посмотрим, каково здесь живётся».
Часто в газете пишут о жалобах домовладельцев, проживающих рядом с аэропортом,
и я понимаю, что читаю точно такие же статьи как минимум раз в год, всегда наблюдая одну и ту же картину:
Поздним вечером я лежу в своей постели, в доме около аэропорта,
слушаю, как над головой пролетают самолёты,
рядом спит незнакомая жена.
В моём воображении спальня лишь сплав рекламных наборов лекарств от простуды
(и на тумбочке всегда лежит коробка с бумажными платками).
Я знаю, все эти повторяющиеся статьи — почти подсказки,
недостаток дизайна, пускай
я ещё и не понял, как именно
могу связать их между собой.
Но замечаю, что одни и те же люди умирают снова и снова,
например, Минни Пёрл,
что умерла уже четыре раза
за четыре года.
3.
Сегодня первый день Великого поста, и я вновь не особо
понимаю, что это вообще такое.
Сколько лет пройдёт, прежде
чем я возьмусь спросить у кого-нибудь об этом?
Вспомнилось сегодняшнее утро, когда ты собиралась на работу.
Я сидел у обогревателя,
в оцепенении глядя на то,
как ты переодеваешься,
и когда ты спросила,
почему я никогда не ношу халат,
у меня было так много веских причин, но я не знал, с какой мне начать.
Если ты был крутым в старшей школе, то никогда не задавал
много вопросов.
Ты мог сказать, кто был на вчерашнем концерте большой металл-группы
по новым футболкам,
мелькавшим в коридорах.
И это было крутостью:
способность делать вывод,
знать всё, без лишних вопросов.
А весь этот выпендрёж,
попытки имитировать крутость,
представляют собой лишь то, что
ты не задаёшь вопросов,
ничего не знаешь, вот почему
дети становятся всё тупее.
Последние страницы школьных ежегодников, переполненные
обещаниями оставаться на связи — ещё одно доказательство
бесполезности подростковых
обещаний. Не то что б я
особо страдал из-за письма от одноклассника-укурка спустя
десять лет, но…
Помнишь, как девчонки
кричали «люблю тебя»!
при этом упуская «Я»,
будто оттягивая
полноценное признание.
Согласен, «Я» — довольно тяжёлый концепт для понимания, так что надеюсь, я не доставлю вам неудобств, погружаясь поглубже в этот вопрос.
4.
Есть вещи, от которых я попросту отказался, например,
запись забавных
сообщений на автоответчик.
Это часть взросления,
и всё человечество в целом
взрослеет таким же образом.
Кажется, наша комедия
стареет быстрее всех.
Если вы смеётесь над шутками Шекспира, то надеюсь, вас
не обидит, когда я скажу,
что вы слишком стараетесь.
Даже скетчи из оригинального
Saturday Night Live сейчас
кажутся слишком глупыми
и очевидными.
Прогресс неудержим.
Сегодня дети
не могут установить
киоск с лимонадом.
Всё это заставляет людей
слишком сильно стесняться
собственного прошлого, хотя
попробуй ещё объяснить
подобное ребёнку.
Я не говорю, что именно так и должно быть.
Все эти новые технологии
в конечном счёте дадут нам
новые чувства, те никогда
не смогут вытеснить старые,
и все будут чувствовать себя
неуютно, нервно, по сути
разделенными надвое.
Мы отправимся на Марс,
когда люди на земле всё ещё
будут вскрывать
пачку чипсов зубами.
Почему? У меня нет такого количества знаний и времени,
чтоб установить все связи,
как у моего друга Гордона
(это правдивая история),
который вырос в Брейнтри,
штат Массачусетс, но никогда
не представлял себе мозг,
зацепившийся за дерево*,
пока я не заговорил об этом.
Он вообще не разбивал название города на две части.
Но тогда уже было поздно.
Он переехал в Корал-Гейбс.
5.
Холм за моим окном всё так же прекрасен,
залитый золотом светом,
как тот, что сияет в Национальном парке,
кажется, он говорит мне:
Жаль, что мир, вероятно,
не сможет вынести ещё одно стихотворение об Орфее,
но в принципе я свободен, если,
конечно, ты не работаешь
над автопортретом
или типа того.
Наблюдаю за своим псом,
Ему опять снится кошмар, он дёргается и скулит на полу, пытаюсь
представить, какой зверь
загнал его в угол на том лугу,
где он видит свои сны.
Я принимаю этот день таким, какой он есть: местом, где
куча вещей может собраться
вместе и найти синергию
друг с другом — даже не местом,
а поводом, реальностью
для реальных вещей.
Друзья предупреждали, чтобы я особо не увлекался с психоделикой
или религией конкретно
в этом стихе:
«Его не очень примут, если он
будет слишком психоделичным
или вовсе религиозным», но это
более чем важные темы,
как по мне,
мой пёс дёргается на полу, возможно, наблюдая меня
в своём сне — ту часть меня, которая избила бы пса
без какой-то причины,
без той причины, которую пёс
может осознать, принять.
Я пытаюсь написать что-то очень простое, поэтому приходится говорить
максимально прямо,
чтобы слова не смогли
изуродовать этот текст,
и если всё, что я говорю,
в конечном счёте —
окажется ложью,
то пусть хотя бы она будет
абсолютно безвредной,
как дырявая лодка в камышах,
которая никому не мешает.
6.
Я не могу доверять своим воспоминаниям, многие из них
смешались с сентиментальными
рекламами мобильников и маргарина, наверняка испорченными Мэдисон-Авеню
хотя, кто сейчас называет мир всей этой рекламы «Мэдисон-Авеню».
Может, они переехали?
Нужно разузнать поточнее.
Но не сейчас, сейчас есть дела поважнее.
Я выхожу на холм за нашим домом, он выглядит таким Аляскинским сегодня, было бы
куда легче объяснить вам,
если бы у меня была с собой фотография,
но я бродил с нашим псом, бежавшим по высокой траве,
будто эта пробежка —
и есть сама жизнь, до тех пор
пока он не услышит птицу
или не найдёт пустую банку из-под пива и они вместе заполнят
всё пространство его сознания.
Думаю, суть в том,
что его разум может вместить
только одну мысль за раз, и когда
он наконец слышит, как я окликаю его, он поднимает глаза
и качает своей головой.
В это мгновение мой голос становится абсолютно всем на свете:
Автопортрет в двадцать восемь лет.
*Достаточно простая игра слов с разделением топонима на два слова Brain (Мозг) и Tree (Дерево).
Ковбойский переполох в сердце
Мы избираем этот вечер,
Накатывая небольшую усталость.
Слишком рано — слишком поздно.
Волны идут, словно горные цепи:
Связанные невозможности,
Ветвистые возможности.
Я постоянно вижу огонь
Там, где его быть не должно —
В пустой библиотеке за ужином
Или в дышащей двери подвала.
Пёс ест из старого бубна на полу.
Мне говорили, можно долго прожить
На одной лишь собачьей верности,
И что когда люди неправы совсем,
Всё становится вдруг слишком
Скверным, горьким, и сон можно
Получить лишь за бесценок.
Уже позже, тем же днём,
Когда не остаётся и выбора,
Когда ремень безопасности
Дарит тебе единственные объятия
За долгие недели, и куча неверных цифр стала всей твоей жизнью
в социуме.
Запутанные стратегии дикой природы
Что лишь сбивают тебя с толку, малыш.
Я впервые встретил её в огромном магазине:
Радужная ворона, рождённая в невесомости,
Похожая на пластиковую траву из пасхальной корзинки
Или падение с эстакады,
Исполнение того пророчества, что ты получил ещё в десятом классе.
Настоящий шедевр мотеля,
Что совсем слеп к ветвистым возможностям
И связанным невозможностям.
Слезы тогда застыли в моих глазах,
Как лань, что вот-вот убежит,
Будто я протянул руку через кошачью дверцу в рай.
Я думал, что могу слизывать глазурь с этих летних деньков,
Если ночи будут хотя бы наполовину такими же сладкими.
Я был похож на побитого пса,
Качающегося туда-сюда.
Я обожал то, как она преображала каждое моё утро,
Когда просыпался на тихих отмелях её кровати,
Кувырков дыма и вселенной мокрого снега,
До того, как она полностью исчезла, вернувшись к истокам.
Теперь каждая задняя мысль выходит из-под контроля.
Наверное, в каком-то смысле, я стремлюсь быть крутым.
Рядом с ней грустить казалось кощунством.
Я говорил о том, как ко мне пришел ангел и заткнул меня?
В её голосе тоже чувствовались улыбка и слёзы.
Она научила меня зажигать,
Зажигать, зажигать всё вокруг себя снова и снова.
Они говорили мне, как долго можно прожить на одной только собачьей любви.
Всё становится вдруг горьким и скверным,
И поспать удаётся лишь под самый конец дня,
Когда выбора уже и не остаётся.
Прошу, позволь твоим глазам вновь стать моими друзьями.
Все мои слезы — лишь неисправность.
Ковбойский переполох в сердце.
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Там второй Нью-Йорк строят
чуть западнее старого.
Никто не спрашивает, зачем нужен ещё один, — они просто берут и строят его.
Город всё ещё закрыт для всех,
кроме рабочих бригад; они уверяют, что это идеальная зеркальная копия.
По правде говоря, каждый мужчина,
который работает над точной копией собственного дома,
добавляет всё новые элементы,
например: распылители одеколона;
рокарии или дверные ручки,
что предназначались для пятизвёздочных отелей.
Все эти улучшения тут и там, их делают, само собой, скрытно и не по правилам.
Никто из начальства, впрочем, не возражает.
У всех отличное настроение: рабочие шутят, болтают и прогуливаются по этим тихим улицам, которые единственный
допущенный на объект репортёр описал как:
«пресноватые, навевающие воспоминания о тяжёлом прошлом старого города, но от которых исходит какой-то особый голубоватый аромат первых дней существования планеты».
Мужчины начинают любить этот мирный городок.
Возвращаться домой им становится всё тяжелее,
и их жёны начинают переживать.
Желтые супы холоднее, закаты наступают быстрее.
Они устраивают долгие перерывы на пожарных лестницах,
махая рукой сквозь пространство тишины другим рабочим,
что уселись и медитируют.
Пока однажды...
Небо вдруг не заполнилось обугленными облаками.
Пояса с инструментами позвякивают на усиливающемся ветру.
Что-то не так.
Бригадир стоит на проспекте и направляет свой бинокль на массивную серую точку,
движущуюся в нашу сторону с востока.
Хор голосов спрашивает: «Ну что? Что это?»
«Голуби!» — кричит он им сквозь порывы ветра.
Классическая вода
Я помню, Китти сказала мне — мы разделяем то глубокое желание получить утешительный приз, смеясь, будто ополаскивая дилижанс.
Я помню ту ночь, когда мы разбили палатку в лагере и я услышал,
как она прошептала:
«думай обо мне как о месте»
из своего спального мешка
с принтом кентавра.
Помню, как в мастерской её отца
мы приняли сигнал неизвестного мужчины, что рыдал сквозь короткие радиоволны
и ночь, когда мы накурились так сильно, что убедили себя — дорога лишь голограмма,
проецируемая лучами фар.
Я помню, она предложила всем нам голосовать за то, что мы будем
делать дальше и помню тот раз,
когда она сказала:
«вся вода должна быть классической»* и смущённо отвернулась.
На матчах по волейболу
её родители сидели на трибунах,
словно послы из Индианы, во всей
своей среднезападной слащавой сентиментальности.
Она была так подавлена, когда их
арестовали за управление частной судебной системой
на территории США.
Порой я просыпаюсь среди ночи
от грохота тележки с едой в номерах отелей и я вспоминаю Китти.
Вспоминаю летние вечера у правительственного озера,
проведённые в беседах о парадоксе множественных Санта-Клаусов или о том, как
ощущается разбитое сердце.
Я до сих пор чувствую эту странную опустошенность в День Труда, когда лето заканчивается
и вспоминаю, что всегда называл её парней «как-его-там?», что было попросту некрасиво, и я хотел бы извиниться
перед ними сейчас, где бы они ни были:
Никто не заслужил того, чтобы его называли «как-его-там?».
*Берман отсылается к лозунгу Кока-Колы после их провальной рекламной кампании и смены оригинального вкуса, лозунг (и вообще весь прецедент с All Coke Should Be Classic Coke) представлял собой возвращение к корням и по сути происходил именно во время студенчества Бермана, о котором он вспоминает в этом стихотворении, так что такой перевод скорее всего менее поэтичный, но куда более верный.
Прекрасные глаза
Каждый хочет, чтобы с холма ему открывался красивый вид,
Но желаниям каждого не дано пересечь подоконника.
Среди ночи я вижу тебя в твоей комнате:
Фотографии на стенах твоих,
Небольшие лесные сценки и Хэллоуин ещё времен старшей школы.
Но это не то, что приходит тебе на ум.
Совсем не то, о чём думаешь ты.
Мечты всех домов — на чертежах.
Наши дома так умеют мечтать.
Снаружи ты следы мои видишь:
Я во дворе твоём мирно спал.
Эти дни когда-нибудь закончатся.
Свет будет искривляться в кухонном окне.
Ты будешь резать тыкву, и кто-то за столом скажет:
«Это не жизнь! Это не то, чего я так ждал!»
Слоны очень стесняются своего размера,
Так что, поливая из шланга их,
Я говорю им: «У вас такие прекрасные глаза».
На заднем дворе я любил играть в ковбоев:
Я сажал своего пса перед обручем и говорил: «Давай, мальчик! Давай!»
Когда у губернатора случится инфаркт,
Птица нашего штата с ветки своей упадёт.
На самых высоких холмах ада растут сосульки.
Тем временем дома, на ранчо моём,
Я по-прежнему встаю раньше всех
И не знаю, есть ли на свете место лучше, чем это.
Я верю, что звёзды — свет ангельских фар.
Они едут к нам с самого рая, чтобы спасти нас.
Взгляни на небо: они летят прямиком оттуда в наши глаза.
И, знаешь, мне так трудно подобрать последние слова.
Я обещаю, что всегда буду помнить твои прекрасные глаза,
Твои прекрасные глаза.
Свастика на лошадиных ногах
Напившись на диване в Нэшвилле, в дюплексе — там
где стоял резервуар, воспринимаю
каждую мысль — как удар
по лицу, словно кролик, что
на своей звезде замерзал,
На той стороне воскресного утра
На части разбит в жутком свете ,
Работая в обанкротившемся цирке — по ту сторону ночи субботней,
Я хочу быть подобным воде,
Ведь воде попросту всё равно,
Ей всё равно всегда и везде,
В побеге от плавающего топора
Не могу просто отстрелиться
И вернуться назад, расскажу
об этих обоях такое — нет, ты
не хотел бы и знать
Но в долине есть алтарь,
Для вещей в том виде,
В каком они предстают,
В триумфе обстоятельств над волей,
В свастике на лошадиных ногах *
Мне бы прокатиться сейчас
На огромной солнечной птице
До самой высшей точки,
До самой высшей точки,
И если смогу наконец-то
Стать подобным воде,
Ведь ей плевать на всё,
Ей нет дела до всех.
*Берман противопоставляет пасторальную чистую картину преступлениям нацизма, отсылаясь к "Триумфу Воли" — пропагандистской картине времён второй мировой, говоря о том что победил "Триумф обстоятельств". Сюда же и ложится образ свастики на лошадиных ногах. Многие говорят о том, что здесь лирический герой переходит от состояния похмелья в осознанность и трансцендентность. Поток реальности и истории беспрерывен, красота торжествует, пускай и на мгновение она может стать жестокой и ужасной.

