Ярослав Глущенков
Родился в Перми, 1988 год.
В младенчестве болел менингитом и чуть не муре.
В садике дружил с косоглазой девочкой Риммой.
В школе выбросил стул из окна третьего этажа.
В лицее написал рассказ «Пещера любви и правды».
В институте имени Горького проучился один месяц, танцевал ночью в парке на лужах, был влюблен в Свету из Калуги.
В Перми работал дворником, грузчиком, промышленным альпинистом.
Являюсь основателем музыкальных проектов Атака Медузы и Dj KYf, с 2009 г. занимаюсь компьютерной музыкой.
В 2021 году упал с крыши двухэтажного дома, в данный момент являюсь инвалидом-колясочником первой группы с переломом спины.
Литератора трахали
Текст написал в 15 лет и пошел с ним в кружок писателей В. Киршина.
Там было веселое обсуждение, сказали, что слишком много безумия.
Хаха, всех люблю.
Там было веселое обсуждение, сказали, что слишком много безумия.
Хаха, всех люблю.
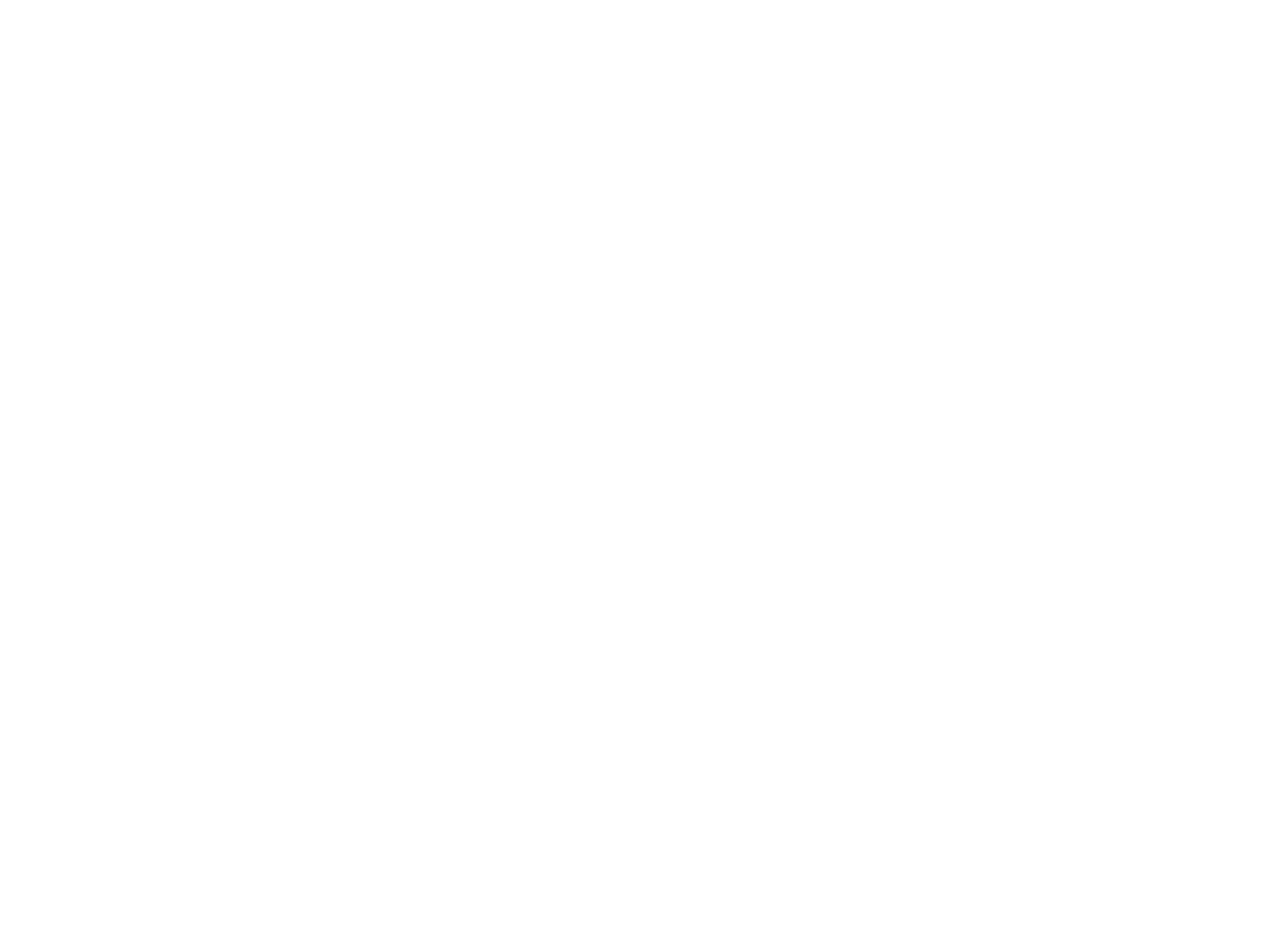
Пищеварение кабинетов
Я стоял, как униженный идиот. Сырые руки тряслись. Помятая рукопись тоже.
Я не помнил, как дошел до дома, поднялся и позвонил в дверь.
Усы женщины
Открыла Людочка. В своем грязном ярко-желтом халате с пятнами жира, чая, лака и спермы. Она плеснула из глаз омерзением и хотела захлопнуть дверь, но я подставил ногу и, невзирая на охрененную боль, ворвался в квартиру.
Духовой оркестр соленого пота
Когда ни с того ни с сего в 17:00 зазвонил безумный будильник, выловив меня, как рыбу, из воды подсознания, я, к сожалению, проснулся. И понял, что лежу на кровати без штанов и нижнего белья. Окно открыто. Пьеса, окончательно мятая и грязная разбросана на полу, очевидно по ней ходили. Я поматерился и вздрогнул:
Сломанный поцелуй свиному зеркалу
Опять этот толстый. Чего он в нашей комнате ходит, как в своей? Ищет чего-то. Молчит, как свинья. Только свиньи хрюкают и фыркают, а этот молчит. От него всегда воняет чем-то. Это наверно и есть тот Гоша. Сволочь. Что-то ищет, роется, вынюхивает, скотина. Я одним глазом смотрю за ним, претворяясь, что сплю. Еврейская морда. Опять хотел с меня штаны снять, но я открыл глаза, и он быстро ушел, замешкавшись. Черт бы его побрал, свинью. Чего ему надо от моих штанов?! Чего он вообще сюда ходит?!
Я пролежал на кровати до трех часов дня. Потея и думая, думая, если же не было о чем думать, я силился и выдавливал из головы, из сознания прыщи дум, только бы не понимать, что со мной происходит нечто антихорошее, неприятное, ужасное. Это было похоже на нытье. Я вспомнил о Докторе.
Это потрясающий субъект, и подозреваю, что вижу его только я. Боже, славно!
Облачная свинья в каменном квадрате
Тот, кто будет читать это, должен представлять себе Доктора. Доктор – это имя. Он очень маленького роста, сантиметров пятнадцать-семнадцать. Главное, что он многое знает! Он пафосен. Он все время жестикулирует своими мизерными руками, когда рассуждает. Он мой единственный друг. Он весел. Это вообще очень веселый субъект. Он живет в каком-то городке под полом или нет. Этот город, по его словам, именуется Трактир или Риткарт, но первое легче произносится. Одним словом, Доктор мне интересен в бесконечной степени. Я его ждал, повысив в настроении количество пузырей. Мне хотелось нервно смеяться.
На небе плавало дерьмо облаков и всплывший труп солнца, дающий серебро. Все равно стало как-то весело, повеселее. Чечеточник за окном. Девичье-студентские визги молодости. Языки листьев, дохнущее дерево. В углу под кроватью раздались слабые мышиные шорохи. Это он. Слабый веселый голосок Доктора:
Вхождение в Блики
Марафон двух искусственных пальцев. Свет. Глаза в часах. М… а-а-а, как омерзительно! Лапки. Шорох бочки, наполненной мыслями таракана. Потрясающая чечетка трамвая. За занавесом домов прятались огромные домовые. Скрипка заскулила в полу. «Черт! Тише!».
Я валялся у окна без трусов. Ножик дразнился прямо перед моим лицом, уверяя первый раз в жизни по-черному, металлическому: «Ты можешь… Ты можешь… Ты». Я взял его за горло. Не надевая штанов, вышел из комнаты. На кухне Люда жарила картошку. Первой была Люда. Она вскрикнула. Я замахнулся. В туалете спустили воду. Я ударил. Она последний раз вскрикнула от второго удара. Рухнула. Я моргнул, оцарапав взглядом дверь туалета. Лицо двери треснуло и покрылось грязными слезами, но подмигнуло мне и открылось. Это был толстый, с тревожной харей. Я молча и молниеносно подошел к нему. Он не успел опомниться. Нож захлебнулся в его теле. Я оставил их. Зачем-то пытался раздеть Люду, но бросил ее. Чуть не выблевал на нее. Поел жареной картошки. Немного. Вернулся в комнату. Оделся. И лег. Сквозь панику тараканов я услышал крики Доктора, выбежавшего из-под кровати.
В этот день все захлебывались потом. Со швейной фабрики домой шла Катя. Платье липло к телу. В магазине была очередь. И всё, всё в поту. Где воздух?! Это удушье… Подходя к дому Катя следила за окном: может я выгляну? Но я не выглянул. Катя поднялась по лестнице, готовя себя к насмешкам прокуренной Люды. Достала из потертого кошелька липкий ключ, всунула в рот замку и повернула два раза.
II.
…Доктор сразу же ответил:
- Возьми револьвер! Возьми!…- завопил Доктор.
Я взял. Рука исчезла.
Это была новая большая уродливая комната с кучей сломанных шкафов, со столом, с кучей стульев и грязных тусклых ковров, кое-где с кровью. Боль вылизывала меня, как лапу. В комнату с улицы вошел человек, не снимая сапог сел на стул, закурил косяк, глядя в зеркальце и разговаривая сам с собой.
Я попробовал шевелить крыльями, но Боль разглядела в этом усмешку и дала пощечину. Я хотел летать, но не мог пошевелиться. Докурив, человек ушел. В комнату вошла Тишина. Слева от себя внизу на стуле я увидел Доктора.
водка безумия
Я старался плевком попасть в чертика, который огнем жарил мне ноги. Доктор засвистел мелодию, крикнув: «Ломаная, как туфли, э-э-эй!!»
Я сидел на кухне с огромным окном. То есть я — человек. За окном было серо-зеленое небо с луной и солнцем, слитыми в затмение. Шорохи – в шаги, шаги – в вошедшего Доктора. Я вздрогнул. Мы были одного роста. Я все понял, до того как он объяснил, смеясь:
Я открыл книгу: «То, что съел Руслан Поркуссанович и т.д.» В первом действии ведут диалоги Каркуш Парука, Муха, Тишина, Отражение, Мондельштам, Клариус. Все происходит во дворике и в той самой комнате с коврами, стульями, бабочками, прикрепленными к стене и проч. Я дочитал первое действие и закрыл книгу. Образ Кати заплыл в мои мысли.
III. Четыре
Замок злобно выплюнул Катин ключ. Она вошла, увидев лужу крови, труп Люды и толстяка. Войдя в комнату она увидела Колю с перерезанными венами и горлом.
Упав на стул, она медленно поняла ситуацию, глядя то на мужа, то в окно.
Когда в комнату вошел незнакомец, Катя онемела от страха. Он был одет в классический костюм. Шляпа. Усы. Глаза, хрустящие снегом безумия, руки в порезах. В руках он держал нож.
Водка Безумия
Я листал книгу. Но вместо слов была пустота. На каждой странице. Почти. Я полистал пустоту: кое-где было по одному слову: «Черт», «Шелк», «Небо», «Свинья» и «Нож». Я вышел с кухни в комнату, ударившись локтем об угол. Везде был какой-то дым, но ничего не горело. Мне казалось, Доктор повесился. Но он стоял на балконе. Потом мне снова показалось, что Доктор действительно повесился. Ужасная секунда. Секунда эта лопнула. Я со спокойствием в зубах вошел в комнату, ведущую на балкон. Мозг читателя не подвергнется напряжению описания сквернейшей комнаты, в которую опускаем взор из-под серванта, как опускаем нежный и женственно-сочный кусок хлеба в тлеющую липкую банку с клубничным вареньем, поднося теплый кусок к потрескавшимся и покусанным губам, но вдруг неосторожно опуская нависшую каплю варенья, что падает и тонет в объятиях свежепахнущей страницы, заставляя вас, возможно, что-то себе сказать, слизать с листка сладкую кляксу и откусить, наконец, хлебную мякоть и вновь неумелым рыбаком кидаете удочку своего взгляда и мозгов в тихий омут сих напечатанных строк, в утопичной надежде поймать хоть одну рыбушку к ужину и не догадываетесь, что всю рыбу в этом пруду съел черт, обитающий на дне и знающий о скучающем рыбаке всё, то есть достаточно для того, чтобы утащить с собой и, Бог знает, что сделать, но не сожрать, как рыбу, которую вы сейчас ловите, подумав, наверняка: может ее здесь и не было? – но ошибаетесь почтенные, а косматый черт, тем временем уже не на дне, а в пространстве зеркала идет к Дреду Фольксу, чтобы отыграть свой ключик, один из тысячи, которыми он отпирает любые двери зазеркалья, ведущие к вам, к тем, что вспотев невозможно сильно, нервно и раздраженно свободною от удочки рукой производят убийства комаров и плюют на всё: и на этот пруд, лес – поскорее торопясь уйти, возвратиться домой к ужину, который был лишен всяческой рыбы, но они не уйдут просто так с рыбалки – за спиной их послышится щелчок взведенного курка, дыхание участится, грохнет выстрел, заставив обернуться и увидеть, что сидите вы за столом, читаете сие и не замечаете, что варенье с нежного и женственно-сочного куска хлеба вот-вот капнет и размажется по строкам бледной страницы, разбавляя слова, но вы, не обращая внимания, продолжаете далее, иногда поглядывая на мое круглое бледное лицо за окном, скользящее по щеке заснувшего свода снежной, мать ее, белой слезой, желая сунуть в рот лезвия свой язык и в оном болоте утонуть, с удовольствием и нервной радостью оборвав все это по-солнечному смертельно-липкое безумие, испытав то чувство, которое всплывает в человеческих пальцах, когда у Господа Бога отрываешь его темно-коричневую бороду, пустую и многолетнюю, которую, кстати, так стремится заполучить Сатана себе к чаю.
Хотя, Бог его знает. Я же войдя в комнату, увидел на балконе Доктора, который пил дым, очень-очень странного толка. Я вошел к нему и моргнул одновременно. Когда открыл глаза, я понял. Вернее я ни черта не понял. Я стоял не на балконе. А черт знает где. Я стоял в лесу. Абсолютно голый.
Тридцатиградусная зима. Я и два немца с автоматами стояли на дороге, окруженной соснами и ведущей к домику слева, метрах в сорока от нас. Была глубочайшая ночь. Немцы, эти двое, были, в отличие от меня, одеты в толстые серые шинели, валенки и каски с соответственной символикой. Я стоял перед ними, леденея. В моей правой руке был револьвер, прижатый металлическими губами к виску, такому же правому, как и рука. Господи, я не мог пошевелиться от резавшего меня мороза. Револьвер примерз к ладони и виску. Немцы тыкали в меня дулами автоматов и, что-то гавкая, ржали, трясясь от собачьего хохота. Я что-то понимал? Я НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЛ!!! Немцы плевали на меня и их плевки превращались на моей синей коже в лед. Мой левый глаз отказал. Ноги не двигались. Я понял. Они глумятся надо мной. Я попытался сжать примерзший к курку указательный палец, кряхтя и силясь, как полумертвая утка в пасти охотничьего пса, подстреленная в крыло. Двое вновь тряслись от смеха, оскорбляя меня по-немецки. «Я не понимаю собачий язык». Их автоматы подражали хозяевам, гикая в хор. Один из автоматов, оглушительно затрещав, выхаркнул очередь пуль рядом со мной по льду. Одна попала мне в ногу, в кость чуть выше ступни. Я упал. Револьвер оторвался от виска с кусочком отмороженной кожи. Теперь я лежал в сугробе. Немец, случайно нажавший на курок в порыве смеха, оправдывался перед товарищем. Я поднял онемевшую руку с револьвером, целясь правым глазом. Суки не видели этого, грызясь между собой. Я выстрелил. Два раза. В того и другого. Первый немец поймал пулю лицом. Второй - плечом, он вскрикнул. Я выстрелил в него еще три раза. Кровь из моей ноги не текла, потому что вся кровь во мне превратилась в лед, разрывая вены и сосуды. Я, полумертвый-получеловек пополз к дому, из которого вырывались собачьи крики, смех, и свет из окон. Психованный холод откусывал от меня куски. За минуту я наверно проползал метр. Я был голый и полз на животе, прожженным до мяса, мой отмороженный член почти оторвался, ноя многотонной кусающей болью. Я полз, глядя на луну, что показывала свой бледный язык и куражилась надо мной, бегая вокруг. Слава Богу! Удар в затылок чем-то тяжелым. Я глотнул кипяток темноты, ощутив что такое двухсотпроцентный спирт. Моргнул. Облетел отрубленную голову Максакгофского два раза и сел на раскаленную лампу, обжарив конечности; улетел в окно, пролетел мимо резиновых звезд и умер при виде как весна в светло-красном вьющемся платье держит перламутровый револьверчик у милейшего своего височка, глядя небесно-черными глазами в нежно-синее небо. «Горькое кофе, ты!» – заорал кто-то откуда-то, запустив в меня огромный камень. Я умер и в следующий момент открыл глаза. Глубоко и напрасно вздохнул, открыл дверцу балкона, застонавшую чрезвычайно насмешливо. Черт возьми, я вошел и зажмурился, выйдя под некий свет. Он струился звуками, и кто-то хихикал, шипел как радио. Вонзающее рюмку в гортань. СБ. Я глотнул чаю. Выплюнул чайный нож и рассмеялся. Доктор был не просто пьян. Он… Мы уже выпили две бутылки ацетона и флакончик запаха. Он вынул. Сконфуженную смертельно пачку мыла. Достал мыльную сигарету и вместо того, чтобы сжечь проклятую ведьму и выпить ее как желток, он вдруг откусил ей голову и стал жевать, распинаясь: «Что поделать». Я металлически засмеялся. Упал со стула. Падение длилось пятнадцать лет. Они пролетели незаметно, как бесконечность. Дама в карте упала на илистое дно картуза. Толстый палец, испаряющийся от душной ночи, раздавил комара по имени Жжесп Парука, что являлся дальним родственником Каркуш Паруки. Черно-красная точка небрежно размазанного комара. Толстый палец обматеренный собратьями в хрусте. Жжесп за несколько секунд до смерти наблюдал картину такого рода: в пустоте комнаты паслось деревянное четырехногое изделие с сородичем, имевшим длинную высокую спину. На нем сидел Дред Фолькс, засучив рукава, он что-то писал, по обыкновению, на спине первого. Там же рыдала свеча. Берголетта сидела в кресле у окна, мысленно танцуя с падающим снегом, более похожим на рис. Бежала мышь, неся в зубах послание Эмоста к P.D., что сейчас дремала на подступах Храма Воды, глядя на луну заходящего в книге солнца. Мышь скрылась в темноте. Берголетта глядела в снежный рис за окном. Снег жадно обнимал ее сочную талию. Скрипело перо Фолькса. Что же он писал? Палец приближался к комару, он раздавил насекомое в старую книгу обоев с запахом душистой мази. Наш палец с Доктором раздавил звонок квартиры двести восемьдесят шесть. Открыла Берголетта. Мы вошли. В снежный лес, наполненный глубочайшей ночью. Дверь закрылась. Были густые елки и снег, в котором мы утопали, следуя за Берголеттой. Я оглянулся, увидев обычную дверь посреди леса. Тут только я ощутил психованный мороз, бросавший в меня дротики минусовой. Они вообще все были психи. Мы шли, проваливаясь в снег, изгибаясь и падая. Слышался громкий собачий смех где-то недалеко за елками. Светила луна, купая дочь в морозном снегу, подмывая ее обгаженные части. Мы долго шли, постоянно нюхая чей-то неодинокий близкий смех. Я шел последним. Мы наконец притаились возле елок, сквозь которые хорошо была видна дорога, ведущая к дому. Холодно. На дороге, спиной к нам стояли два немецких солдата с автоматами. Это был их смех. Перед ним стоял совершенно голый человек с чем-то блестящим в руке. Я еще раз посмотрел на проплывающий мимо бледный труп колобка, светящийся от смертельной мази. Я загляделся, ловя левым ухом собачьи крики немцев. Берголетта лепила снежок. Внезапно раздалась трескучая автоматная очередь. Я посмотрел и увидел, что голый упал в сугроб, а немцы сцепились между собой. Берголетта кинула в них снежок. Попала. Доктор вздрогнул. Немцы тревожно обернулись, подняв стволы и головы наверх. Один из них что-то крикнул. Берголетта ответила что-то невнятное. Немец побежал к нам наверх, проваливаясь в снег. Другой подошел к голому и прошил его из автомата, после чего быстро направился к дому. Подбежавший к нам отдышался, что-то сказал и недружелюбно покосился на нас с Доктором. Берголетта подала немцу руку и спрыгнула в снег в своем легком платье. Тот грубо потащил ее в дом. Она смеялась. Я взглянул на труп голого и на Доктора.
Тем временем Дред Фолькс отложил чернила. Оделся, взял нож и вышел. В то же время Мондельштам с ружьем и сумкой ушел в лес, заполненный темнотой и снегом. Оставшийся Каркуш Парука вознес огромный топор над свиной шеей спящего Руслана Паркуссановича Клариуса, который видел во сне немцев в доме, легших спать, бросивших Берголетту в сугроб. Ее кровь была на моей спине. Меня куда-то понесли, засунули в мешок и бросили в сани. Я слышал:
А у P.D. в эту ночь глаза были спокойны и молчаливы, они блестели как две звездочки, не то на небе, не то ниндзя. P.D. было одиноко, и луна сегодня была игрива. Меж ними заискрилось лесбийское чувство. Они влизывались друг в друга глазами, выжимая их, и падали слезы. P.D. прочла послание Эмоста и захотела поскорее его увидеть. Она растворилась в сон и стала Тишиной по имени Гахсона.
А я выбрался из распоротого мешка. В доме Мондельштама звенели крики. Грохнул смех и выстрел. Так начался Мосье Жерар, так кончился Мондельштам и Клариус, который лежал за заборчиком, без головы и в луже крови. Я стоял неподвижно. Была ночь. В доме горел свет. Дверь внезапно отпрыгнула в сторону от удара в живот. Выскочил Мосье Жерар с пистолетом и в цилиндре. Он с сарказмом посмотрел на меня, молвив:
- Эй, товарищ! Вы-то чего стоите? – и убежал в лес.
У него была голова свиньи и виднелись швы на шее со свежей кровью. Я вошел в дом и на меня обрушилась темнота. Потом запахло табачным дымом. Сверкнул огонь, которым я закапал глаза. Было много странных людей. Электрически освещенная комната. Мы кричали.
- А мне почем знать? По мне, знаешь, в прорубь!
- Га-а-а… Да, блин, в Зимний дворец меня!! Нет-нет. Я спокоен… Да, все… Я сказал… Уберите руки! В конце концов я председатель... Козлы, что ли?!
Тихо он, как только с-смог: «Нет, я не курю. Они схватили ее ».
Посмотрите в окно, если оно по-близости. Что там? Что там, по ту сторону? Пасмурный дождь, нервная буря, разговорчивое солнце, немой снег, сон луны, смесь?.. Что это? Вы думаете – занавес? Вы верно думаете. Все что вы видите – это занавес. Попробуйте его открыть голыми руками. Загляните туда. Ваше подсознание прыснет на губы. Вы должны испытать радость. Главное: не паниковать.
IV. Два
Когда Катя вошла в квартиру, она увидела два трупа. Я лежал на полу в шизофреническом припадке. Она закричала.
V. Финал
Миша сидел перед телевизором и играл в «Super Mario». Ему исполнилось семь. Мать курила на балконе. Отец читал порножурнал в туалете. Кот лакал воду на кухне. Над тортом летала муха. Молодой поэт Гриша Халатов оставил записку: «Пойду прогуляюсь», – и ушел. Вечер таял как шоколад. Халатов медленно шагал по дворам, по излюбленному пути. Была осень. Он вглядывался в деревья и листья, думая: «А что если рассказ написать именно о том, что был, мол, литератор, потом он окончательно сошел с ума от хреновой жизни. Убил кого-нибудь. И упал в свой мир, который сам и придумал… допустим, очутился в своем рассказе… или в своей пьесе, наяву. Пусть этого писателя зовут Коля… и жена у него была какая-нибудь швея Катя… оба молодые... А потом…» Ну и т. д.
VI. ну и т.д.
Он стоял, как униженный идиот. Мокрые руки дрожали и…
Я стоял, как униженный идиот. Сырые руки тряслись. Помятая рукопись тоже.
- Идите вы к черту, сумасшедший! – орал усатый Рефекин, быстро шагая к кабинету,
- Граждане, остановите вы этого маньяка! – но граждане сидели на лавках и резали меня своими насмешливыми глазами, некоторые от души смеялись.
- Да будьте же вы трезвы! Ну, постойте!
- Убирайтесь, я вам сказал! Похоже вы - пьяница!
- Я не пьян, но человечен!
- Ах человечны?! – орал он.
- Вам надо «крышу» в ремонт, товарищ писатель! Убирайтесь! Вы сатанист! Вы просто аморальный субъект!
- Да… отчего?! Я же не революционер чертов!!! – чуть не грохнулся.
- Вы никто, вы сумасшедший, слышите? Вы опасны для общества! Убирайтесь, идиот!
- Обществу нужны такие как я! Вы не понимаете! Вы заблуждаетесь!
- Пошел вон! Вас даже в психушку не возьмут, вас убить надо! Не то, что напечатать…
- Да по какому праву?
- Тьфу! – плюнул он в меня, но промахнулся и скрылся за дверью своего кабинета.
- Вы и впрямь идиот, гражданин… Хе!
- Товарищи, верните, пожалуйста…
Я не помнил, как дошел до дома, поднялся и позвонил в дверь.
Усы женщины
Открыла Людочка. В своем грязном ярко-желтом халате с пятнами жира, чая, лака и спермы. Она плеснула из глаз омерзением и хотела захлопнуть дверь, но я подставил ногу и, невзирая на охрененную боль, ворвался в квартиру.
- А, это ты. Я подумала бомж какой-то, – брызгая слюной проскрипела Люда, правда без особой актерской интонации: – Алкашом стал, писатель? – презрительно присвистнула она и захрюкала, хотя хотела, видимо, засмеяться.
Духовой оркестр соленого пота
Когда ни с того ни с сего в 17:00 зазвонил безумный будильник, выловив меня, как рыбу, из воды подсознания, я, к сожалению, проснулся. И понял, что лежу на кровати без штанов и нижнего белья. Окно открыто. Пьеса, окончательно мятая и грязная разбросана на полу, очевидно по ней ходили. Я поматерился и вздрогнул:
- Что?..
- Тебя поимели за неуплату налогов, - рявкнул прокуренный голос Люды.
- Что за пьеса, писатель? – прохрипела она, откашлялась и харкнула на стену.
- Пятница – последний день. Если не заплатите, Гоша будет тебя шпиндолить, как сегодня. Все понял, милый?
- П… д… а… э… к… к… К… а…
- Ну, значит, ты все понял. И стерве своей тоже скажи, - просипела усатая женщина и ушла к себе.
- Чая нет, Коленька. Вот, воду с сахаром… пока так, - она столовой ложкой зачерпнула сахару и опустила в пол-литровую банку с горячей водой.
- Катенька…
- Что с пьесой? – перебила она, втягивая облако серой ваты. – Что там критик твой?
- Ничего. Нет… не… Э-э… Он выгнал меня, свинья, – сказал я, почему-то обрадовавшись, и выплюнул скорлупку. – Катенька, здесь скорлупа. Будь пожалуйста… аккуратнее (я имел ввиду «готовь»).
- Не принял значит. Что делать хочешь? Я скоро, возможно, уеду.
- Как, Катя? Куда ты уедешь? По работе, что ли?
- Нет. Не по работе… Я не хотела тебе говорить… Я, Коля… Нет, я не бросаю тебя, ты не думай… Но…
- Да я и не думал… Послушай, Катя. Эта Люда… она говорила ужасные вещи. Она сказала, что надо в пятницу заплатить… В общем…
- Неделя! – она сломала сигарете позвоночник. – Что ж нам… голодать придется?
- Я, Катенька, куда-нибудь устроюсь… Попробую все-таки.
- Куда ты устроишься?! Раньше надо было думать. Хоть вешайся… Это все дурость, Коля. Поговори с ней, у меня через две недели зарплата. Уговори ее как-нибудь… Что остается делать?..
- Не знаю я… получится ли? Знаешь ведь ее. У тебя может с начальством как-нибудь? Чтоб раньше дали?
- Да какое начальство?! Нет, с ними бесполезно. Может в долг взять? У кого только…
Сломанный поцелуй свиному зеркалу
Опять этот толстый. Чего он в нашей комнате ходит, как в своей? Ищет чего-то. Молчит, как свинья. Только свиньи хрюкают и фыркают, а этот молчит. От него всегда воняет чем-то. Это наверно и есть тот Гоша. Сволочь. Что-то ищет, роется, вынюхивает, скотина. Я одним глазом смотрю за ним, претворяясь, что сплю. Еврейская морда. Опять хотел с меня штаны снять, но я открыл глаза, и он быстро ушел, замешкавшись. Черт бы его побрал, свинью. Чего ему надо от моих штанов?! Чего он вообще сюда ходит?!
Я пролежал на кровати до трех часов дня. Потея и думая, думая, если же не было о чем думать, я силился и выдавливал из головы, из сознания прыщи дум, только бы не понимать, что со мной происходит нечто антихорошее, неприятное, ужасное. Это было похоже на нытье. Я вспомнил о Докторе.
Это потрясающий субъект, и подозреваю, что вижу его только я. Боже, славно!
Облачная свинья в каменном квадрате
Тот, кто будет читать это, должен представлять себе Доктора. Доктор – это имя. Он очень маленького роста, сантиметров пятнадцать-семнадцать. Главное, что он многое знает! Он пафосен. Он все время жестикулирует своими мизерными руками, когда рассуждает. Он мой единственный друг. Он весел. Это вообще очень веселый субъект. Он живет в каком-то городке под полом или нет. Этот город, по его словам, именуется Трактир или Риткарт, но первое легче произносится. Одним словом, Доктор мне интересен в бесконечной степени. Я его ждал, повысив в настроении количество пузырей. Мне хотелось нервно смеяться.
На небе плавало дерьмо облаков и всплывший труп солнца, дающий серебро. Все равно стало как-то весело, повеселее. Чечеточник за окном. Девичье-студентские визги молодости. Языки листьев, дохнущее дерево. В углу под кроватью раздались слабые мышиные шорохи. Это он. Слабый веселый голосок Доктора:
- Николя! Николя! Ты здесь?
- Здесь.
- Я тебе сухарей принес, - он тащил мешок.
- Спасибо, – я взял сухарик из мешка.
- Это превосходно… Кстати, ты ведь пишешь пьесы?
- Ну да. Есть у меня одна. Только она трагедия.
- Это прекрасно… О чем она, умоляю, поведай… А как называется-то?
- Пьеса?.. «Поклонник Дреда Фолькса и Берголетты».
- Это такое название?! – он лопнул от смеха. Я совершенно сконфузился. Он иногда жесток: – А что там? Ну, про что?
- Прочитать может?
- Давай. Это она? Да тут я смотрю немного. Мятая вся. Какая-то…
- Да… Маленькая… - я начал читать. Прочитал за час. Доктор задумался.
- «Обратный день Мондельштама»… - важно произнес он. – Ты не читал случайно?
- Что? – я поперхнулся.
- Это так пьеса называется. У него там такие же герои… Эти же самые! Это потрясающе… Это совпадение персонажей. Чудо! Просто!
- Чего-о? Не понял, у кого? Такие же персонажи, что ли? А кто автор? Эй, Доктор!
- А?
- Кто ее написал-то?
- Да-да. Надо как-нибудь тебя познакомить с ним. Надо обязательно… Его зовут Бернард, по-моему. Фамилия – Альгцбергцштейн, - он задумался и ожил снова: - Это невозможно… Это здорово… У вас одни и те же герои…Ты, Николя, знать Бернарда не мог… Вот в чем мысль!
- Тебе моя понравилась?
- Да. Но у Альгцбергцштейна лучше.
- Ты чего, литератор, с ума сошел? Сам с собой разговариваешь уже? Чего разлегся-то, литератор? – фыркнула усатая.
- А что? Сегодня еще вторник, а не пятница. Чо нужно? – я с подозрением покосился на Игоря.
- Я тэба сэгодня ыметь буду, урод! Давай свою жопу, давай! - загавкал потный еврей.
- Кого вам? Какую жопу? Тебе Людмилы мало? – я ничего не понял.
- Твою, твою, крыса! Как вчера, помнышь? Ха! Давай…
- А ну отойди! – вскипел я и брызнул к ножу в сковородке на столе.
- Ты чего это, литератор?! Я тебя сейчас же выселю, понял? – залаяла Люда, которую трахал в рот табачный дым. Старик.
- Сука! Заткнись!! Чего, жирный?! Ну! Попробуй сейчас! Чего?!
- Ах ты сын паганый! – толстый схватил что-то тяжелое и ловко в меня бросил.
Вхождение в Блики
Марафон двух искусственных пальцев. Свет. Глаза в часах. М… а-а-а, как омерзительно! Лапки. Шорох бочки, наполненной мыслями таракана. Потрясающая чечетка трамвая. За занавесом домов прятались огромные домовые. Скрипка заскулила в полу. «Черт! Тише!».
Я валялся у окна без трусов. Ножик дразнился прямо перед моим лицом, уверяя первый раз в жизни по-черному, металлическому: «Ты можешь… Ты можешь… Ты». Я взял его за горло. Не надевая штанов, вышел из комнаты. На кухне Люда жарила картошку. Первой была Люда. Она вскрикнула. Я замахнулся. В туалете спустили воду. Я ударил. Она последний раз вскрикнула от второго удара. Рухнула. Я моргнул, оцарапав взглядом дверь туалета. Лицо двери треснуло и покрылось грязными слезами, но подмигнуло мне и открылось. Это был толстый, с тревожной харей. Я молча и молниеносно подошел к нему. Он не успел опомниться. Нож захлебнулся в его теле. Я оставил их. Зачем-то пытался раздеть Люду, но бросил ее. Чуть не выблевал на нее. Поел жареной картошки. Немного. Вернулся в комнату. Оделся. И лег. Сквозь панику тараканов я услышал крики Доктора, выбежавшего из-под кровати.
- Это ужасно! Эти твои тараканы! А-а! Я их боюсь… Я их ужасно боюсь… У меня фобии… – Доктор не знал еще, что случилось. – Николя, ты спишь?
- Нет. Хотя хотелось бы.
- Слушай. Хочешь со мной? В Трактир?
- Ты серьезно? Нет, Доктор, если это шутка, я не знаю, что теперь делать… ты меня можешь взять с собой? Ты… ты… меня можешь взять с собой туда?
- Охотно.
- А как? Как? Рассказывай!
- Охотно. Только не нужно, я тебя умоляю, задавать вопросы. Не надо задавать вопросы. Я все сделаю. Только вот еще одно обстоятельство: если ты со мной уйдешь, то уже все. Навсегда.
- Я знаю!! – я почему-то психанул.
- Ладно… он хитро потер ручки. Альтазар!!! Альтазар!!! – заорал Доктор так, что задрожала оконная рама, а мои перепонки чуть не лопнули.
- Ты чего?! Ты откуда так громко орешь?!
- Да молчи ты! Тихо ты! Альтазар!!! Альтазар!!
- Жди, - сказал Доктор, пытаясь залезть на стол. - Подними меня… - я поднял.
- Что это? – спросил я.
- Без вопросов… Мне лень объяснять… Ой, как я устал… - хныкал Доктор.
- А Катя?..
В этот день все захлебывались потом. Со швейной фабрики домой шла Катя. Платье липло к телу. В магазине была очередь. И всё, всё в поту. Где воздух?! Это удушье… Подходя к дому Катя следила за окном: может я выгляну? Но я не выглянул. Катя поднялась по лестнице, готовя себя к насмешкам прокуренной Люды. Достала из потертого кошелька липкий ключ, всунула в рот замку и повернула два раза.
II.
…Доктор сразу же ответил:
- А что Катя? Катя с тобой не пройдет в любом случае. Хе! Я повторяю: не пройдет. Это невозможно. Так, что если будешь ныть, я пошел.
- Возьми револьвер! Возьми!…- завопил Доктор.
Я взял. Рука исчезла.
- Стреляй себе в голову.
- Дурак. К виску лучше.
Это была новая большая уродливая комната с кучей сломанных шкафов, со столом, с кучей стульев и грязных тусклых ковров, кое-где с кровью. Боль вылизывала меня, как лапу. В комнату с улицы вошел человек, не снимая сапог сел на стул, закурил косяк, глядя в зеркальце и разговаривая сам с собой.
Я попробовал шевелить крыльями, но Боль разглядела в этом усмешку и дала пощечину. Я хотел летать, но не мог пошевелиться. Докурив, человек ушел. В комнату вошла Тишина. Слева от себя внизу на стуле я увидел Доктора.
- Какого хрена?.. – прошептал я, корчась в муках.
- Терпи пока. Надо ждать.
- Черт… чего ждать?
- Пока не провалимся.
водка безумия
Я старался плевком попасть в чертика, который огнем жарил мне ноги. Доктор засвистел мелодию, крикнув: «Ломаная, как туфли, э-э-эй!!»
- Я бабочка?..
- Это Мондельштам… А зачем он мизинец себе срубил, знаешь? Что не слышишь? Николя, очнись!
- А?… Мизинец?..
- Это он свинью подкармливает, знаешь.
- А как свинью зовут? Свинью-ю-ю…
- Клариус Руслан Поркуссанович.
Я сидел на кухне с огромным окном. То есть я — человек. За окном было серо-зеленое небо с луной и солнцем, слитыми в затмение. Шорохи – в шаги, шаги – в вошедшего Доктора. Я вздрогнул. Мы были одного роста. Я все понял, до того как он объяснил, смеясь:
- Мон парикю, Николя, вот ты и дома. У меня дома в Трактире. Ты рад?
- Рад. Доктор, я рад. Что теперь делать?
- Можешь прочесть пьесу Альгцбергцштейна. Это полезно. – он бросил на стол книгу. – «Обратный день Мондельштама». Бравурная вещь. Я пойду покурю. Вот холодильник. И в нем еда. Если захочешь…
Я открыл книгу: «То, что съел Руслан Поркуссанович и т.д.» В первом действии ведут диалоги Каркуш Парука, Муха, Тишина, Отражение, Мондельштам, Клариус. Все происходит во дворике и в той самой комнате с коврами, стульями, бабочками, прикрепленными к стене и проч. Я дочитал первое действие и закрыл книгу. Образ Кати заплыл в мои мысли.
III. Четыре
Замок злобно выплюнул Катин ключ. Она вошла, увидев лужу крови, труп Люды и толстяка. Войдя в комнату она увидела Колю с перерезанными венами и горлом.
Упав на стул, она медленно поняла ситуацию, глядя то на мужа, то в окно.
Когда в комнату вошел незнакомец, Катя онемела от страха. Он был одет в классический костюм. Шляпа. Усы. Глаза, хрустящие снегом безумия, руки в порезах. В руках он держал нож.
- Это вы всех убили?! – порванным голосом спросила Катя, но незнакомец успел три раза ударить ее ножом в бок.
Водка Безумия
Я листал книгу. Но вместо слов была пустота. На каждой странице. Почти. Я полистал пустоту: кое-где было по одному слову: «Черт», «Шелк», «Небо», «Свинья» и «Нож». Я вышел с кухни в комнату, ударившись локтем об угол. Везде был какой-то дым, но ничего не горело. Мне казалось, Доктор повесился. Но он стоял на балконе. Потом мне снова показалось, что Доктор действительно повесился. Ужасная секунда. Секунда эта лопнула. Я со спокойствием в зубах вошел в комнату, ведущую на балкон. Мозг читателя не подвергнется напряжению описания сквернейшей комнаты, в которую опускаем взор из-под серванта, как опускаем нежный и женственно-сочный кусок хлеба в тлеющую липкую банку с клубничным вареньем, поднося теплый кусок к потрескавшимся и покусанным губам, но вдруг неосторожно опуская нависшую каплю варенья, что падает и тонет в объятиях свежепахнущей страницы, заставляя вас, возможно, что-то себе сказать, слизать с листка сладкую кляксу и откусить, наконец, хлебную мякоть и вновь неумелым рыбаком кидаете удочку своего взгляда и мозгов в тихий омут сих напечатанных строк, в утопичной надежде поймать хоть одну рыбушку к ужину и не догадываетесь, что всю рыбу в этом пруду съел черт, обитающий на дне и знающий о скучающем рыбаке всё, то есть достаточно для того, чтобы утащить с собой и, Бог знает, что сделать, но не сожрать, как рыбу, которую вы сейчас ловите, подумав, наверняка: может ее здесь и не было? – но ошибаетесь почтенные, а косматый черт, тем временем уже не на дне, а в пространстве зеркала идет к Дреду Фольксу, чтобы отыграть свой ключик, один из тысячи, которыми он отпирает любые двери зазеркалья, ведущие к вам, к тем, что вспотев невозможно сильно, нервно и раздраженно свободною от удочки рукой производят убийства комаров и плюют на всё: и на этот пруд, лес – поскорее торопясь уйти, возвратиться домой к ужину, который был лишен всяческой рыбы, но они не уйдут просто так с рыбалки – за спиной их послышится щелчок взведенного курка, дыхание участится, грохнет выстрел, заставив обернуться и увидеть, что сидите вы за столом, читаете сие и не замечаете, что варенье с нежного и женственно-сочного куска хлеба вот-вот капнет и размажется по строкам бледной страницы, разбавляя слова, но вы, не обращая внимания, продолжаете далее, иногда поглядывая на мое круглое бледное лицо за окном, скользящее по щеке заснувшего свода снежной, мать ее, белой слезой, желая сунуть в рот лезвия свой язык и в оном болоте утонуть, с удовольствием и нервной радостью оборвав все это по-солнечному смертельно-липкое безумие, испытав то чувство, которое всплывает в человеческих пальцах, когда у Господа Бога отрываешь его темно-коричневую бороду, пустую и многолетнюю, которую, кстати, так стремится заполучить Сатана себе к чаю.
Хотя, Бог его знает. Я же войдя в комнату, увидел на балконе Доктора, который пил дым, очень-очень странного толка. Я вошел к нему и моргнул одновременно. Когда открыл глаза, я понял. Вернее я ни черта не понял. Я стоял не на балконе. А черт знает где. Я стоял в лесу. Абсолютно голый.
Тридцатиградусная зима. Я и два немца с автоматами стояли на дороге, окруженной соснами и ведущей к домику слева, метрах в сорока от нас. Была глубочайшая ночь. Немцы, эти двое, были, в отличие от меня, одеты в толстые серые шинели, валенки и каски с соответственной символикой. Я стоял перед ними, леденея. В моей правой руке был револьвер, прижатый металлическими губами к виску, такому же правому, как и рука. Господи, я не мог пошевелиться от резавшего меня мороза. Револьвер примерз к ладони и виску. Немцы тыкали в меня дулами автоматов и, что-то гавкая, ржали, трясясь от собачьего хохота. Я что-то понимал? Я НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЛ!!! Немцы плевали на меня и их плевки превращались на моей синей коже в лед. Мой левый глаз отказал. Ноги не двигались. Я понял. Они глумятся надо мной. Я попытался сжать примерзший к курку указательный палец, кряхтя и силясь, как полумертвая утка в пасти охотничьего пса, подстреленная в крыло. Двое вновь тряслись от смеха, оскорбляя меня по-немецки. «Я не понимаю собачий язык». Их автоматы подражали хозяевам, гикая в хор. Один из автоматов, оглушительно затрещав, выхаркнул очередь пуль рядом со мной по льду. Одна попала мне в ногу, в кость чуть выше ступни. Я упал. Револьвер оторвался от виска с кусочком отмороженной кожи. Теперь я лежал в сугробе. Немец, случайно нажавший на курок в порыве смеха, оправдывался перед товарищем. Я поднял онемевшую руку с револьвером, целясь правым глазом. Суки не видели этого, грызясь между собой. Я выстрелил. Два раза. В того и другого. Первый немец поймал пулю лицом. Второй - плечом, он вскрикнул. Я выстрелил в него еще три раза. Кровь из моей ноги не текла, потому что вся кровь во мне превратилась в лед, разрывая вены и сосуды. Я, полумертвый-получеловек пополз к дому, из которого вырывались собачьи крики, смех, и свет из окон. Психованный холод откусывал от меня куски. За минуту я наверно проползал метр. Я был голый и полз на животе, прожженным до мяса, мой отмороженный член почти оторвался, ноя многотонной кусающей болью. Я полз, глядя на луну, что показывала свой бледный язык и куражилась надо мной, бегая вокруг. Слава Богу! Удар в затылок чем-то тяжелым. Я глотнул кипяток темноты, ощутив что такое двухсотпроцентный спирт. Моргнул. Облетел отрубленную голову Максакгофского два раза и сел на раскаленную лампу, обжарив конечности; улетел в окно, пролетел мимо резиновых звезд и умер при виде как весна в светло-красном вьющемся платье держит перламутровый револьверчик у милейшего своего височка, глядя небесно-черными глазами в нежно-синее небо. «Горькое кофе, ты!» – заорал кто-то откуда-то, запустив в меня огромный камень. Я умер и в следующий момент открыл глаза. Глубоко и напрасно вздохнул, открыл дверцу балкона, застонавшую чрезвычайно насмешливо. Черт возьми, я вошел и зажмурился, выйдя под некий свет. Он струился звуками, и кто-то хихикал, шипел как радио. Вонзающее рюмку в гортань. СБ. Я глотнул чаю. Выплюнул чайный нож и рассмеялся. Доктор был не просто пьян. Он… Мы уже выпили две бутылки ацетона и флакончик запаха. Он вынул. Сконфуженную смертельно пачку мыла. Достал мыльную сигарету и вместо того, чтобы сжечь проклятую ведьму и выпить ее как желток, он вдруг откусил ей голову и стал жевать, распинаясь: «Что поделать». Я металлически засмеялся. Упал со стула. Падение длилось пятнадцать лет. Они пролетели незаметно, как бесконечность. Дама в карте упала на илистое дно картуза. Толстый палец, испаряющийся от душной ночи, раздавил комара по имени Жжесп Парука, что являлся дальним родственником Каркуш Паруки. Черно-красная точка небрежно размазанного комара. Толстый палец обматеренный собратьями в хрусте. Жжесп за несколько секунд до смерти наблюдал картину такого рода: в пустоте комнаты паслось деревянное четырехногое изделие с сородичем, имевшим длинную высокую спину. На нем сидел Дред Фолькс, засучив рукава, он что-то писал, по обыкновению, на спине первого. Там же рыдала свеча. Берголетта сидела в кресле у окна, мысленно танцуя с падающим снегом, более похожим на рис. Бежала мышь, неся в зубах послание Эмоста к P.D., что сейчас дремала на подступах Храма Воды, глядя на луну заходящего в книге солнца. Мышь скрылась в темноте. Берголетта глядела в снежный рис за окном. Снег жадно обнимал ее сочную талию. Скрипело перо Фолькса. Что же он писал? Палец приближался к комару, он раздавил насекомое в старую книгу обоев с запахом душистой мази. Наш палец с Доктором раздавил звонок квартиры двести восемьдесят шесть. Открыла Берголетта. Мы вошли. В снежный лес, наполненный глубочайшей ночью. Дверь закрылась. Были густые елки и снег, в котором мы утопали, следуя за Берголеттой. Я оглянулся, увидев обычную дверь посреди леса. Тут только я ощутил психованный мороз, бросавший в меня дротики минусовой. Они вообще все были психи. Мы шли, проваливаясь в снег, изгибаясь и падая. Слышался громкий собачий смех где-то недалеко за елками. Светила луна, купая дочь в морозном снегу, подмывая ее обгаженные части. Мы долго шли, постоянно нюхая чей-то неодинокий близкий смех. Я шел последним. Мы наконец притаились возле елок, сквозь которые хорошо была видна дорога, ведущая к дому. Холодно. На дороге, спиной к нам стояли два немецких солдата с автоматами. Это был их смех. Перед ним стоял совершенно голый человек с чем-то блестящим в руке. Я еще раз посмотрел на проплывающий мимо бледный труп колобка, светящийся от смертельной мази. Я загляделся, ловя левым ухом собачьи крики немцев. Берголетта лепила снежок. Внезапно раздалась трескучая автоматная очередь. Я посмотрел и увидел, что голый упал в сугроб, а немцы сцепились между собой. Берголетта кинула в них снежок. Попала. Доктор вздрогнул. Немцы тревожно обернулись, подняв стволы и головы наверх. Один из них что-то крикнул. Берголетта ответила что-то невнятное. Немец побежал к нам наверх, проваливаясь в снег. Другой подошел к голому и прошил его из автомата, после чего быстро направился к дому. Подбежавший к нам отдышался, что-то сказал и недружелюбно покосился на нас с Доктором. Берголетта подала немцу руку и спрыгнула в снег в своем легком платье. Тот грубо потащил ее в дом. Она смеялась. Я взглянул на труп голого и на Доктора.
- Надо ждать, – сказал он.
- Я люблю мучить людей.
Тем временем Дред Фолькс отложил чернила. Оделся, взял нож и вышел. В то же время Мондельштам с ружьем и сумкой ушел в лес, заполненный темнотой и снегом. Оставшийся Каркуш Парука вознес огромный топор над свиной шеей спящего Руслана Паркуссановича Клариуса, который видел во сне немцев в доме, легших спать, бросивших Берголетту в сугроб. Ее кровь была на моей спине. Меня куда-то понесли, засунули в мешок и бросили в сани. Я слышал:
- Эй ты!
- Чего? А-а… червонец!
- Жадын, скот! На тебе червон! Есшай! – тот, кто пролаял это, бросился обратно по хрустящему снегу.
А у P.D. в эту ночь глаза были спокойны и молчаливы, они блестели как две звездочки, не то на небе, не то ниндзя. P.D. было одиноко, и луна сегодня была игрива. Меж ними заискрилось лесбийское чувство. Они влизывались друг в друга глазами, выжимая их, и падали слезы. P.D. прочла послание Эмоста и захотела поскорее его увидеть. Она растворилась в сон и стала Тишиной по имени Гахсона.
А я выбрался из распоротого мешка. В доме Мондельштама звенели крики. Грохнул смех и выстрел. Так начался Мосье Жерар, так кончился Мондельштам и Клариус, который лежал за заборчиком, без головы и в луже крови. Я стоял неподвижно. Была ночь. В доме горел свет. Дверь внезапно отпрыгнула в сторону от удара в живот. Выскочил Мосье Жерар с пистолетом и в цилиндре. Он с сарказмом посмотрел на меня, молвив:
- Эй, товарищ! Вы-то чего стоите? – и убежал в лес.
У него была голова свиньи и виднелись швы на шее со свежей кровью. Я вошел в дом и на меня обрушилась темнота. Потом запахло табачным дымом. Сверкнул огонь, которым я закапал глаза. Было много странных людей. Электрически освещенная комната. Мы кричали.
- А мне почем знать? По мне, знаешь, в прорубь!
- Вот сабли-то…Экость!
- Я проглотил горло Мондельштама! – послышалось из шкафа и сразу произошло шипение. Неародюжинна засвистела. - А что? (он ушел с блокнотом).
- Мондельштам неохотно делил небо с нами!
- Га-а-а… Да, блин, в Зимний дворец меня!! Нет-нет. Я спокоен… Да, все… Я сказал… Уберите руки! В конце концов я председатель... Козлы, что ли?!
Тихо он, как только с-смог: «Нет, я не курю. Они схватили ее ».
- Как так? – с одухотворенной улыбочкой и явной перспективой в глазах – в глазах прошпиндолить. Лить.
- Утром! – сказал я.
- А ты тараканчик еще…
- Ах ты гнида!
- Как зовут?
- Христос.
- Это имя, что ли?!
- Нет.
- А имя?
- Пропрое. Я видел лошадь.
Посмотрите в окно, если оно по-близости. Что там? Что там, по ту сторону? Пасмурный дождь, нервная буря, разговорчивое солнце, немой снег, сон луны, смесь?.. Что это? Вы думаете – занавес? Вы верно думаете. Все что вы видите – это занавес. Попробуйте его открыть голыми руками. Загляните туда. Ваше подсознание прыснет на губы. Вы должны испытать радость. Главное: не паниковать.
IV. Два
Когда Катя вошла в квартиру, она увидела два трупа. Я лежал на полу в шизофреническом припадке. Она закричала.
V. Финал
Миша сидел перед телевизором и играл в «Super Mario». Ему исполнилось семь. Мать курила на балконе. Отец читал порножурнал в туалете. Кот лакал воду на кухне. Над тортом летала муха. Молодой поэт Гриша Халатов оставил записку: «Пойду прогуляюсь», – и ушел. Вечер таял как шоколад. Халатов медленно шагал по дворам, по излюбленному пути. Была осень. Он вглядывался в деревья и листья, думая: «А что если рассказ написать именно о том, что был, мол, литератор, потом он окончательно сошел с ума от хреновой жизни. Убил кого-нибудь. И упал в свой мир, который сам и придумал… допустим, очутился в своем рассказе… или в своей пьесе, наяву. Пусть этого писателя зовут Коля… и жена у него была какая-нибудь швея Катя… оба молодые... А потом…» Ну и т. д.
VI. ну и т.д.
Он стоял, как униженный идиот. Мокрые руки дрожали и…

