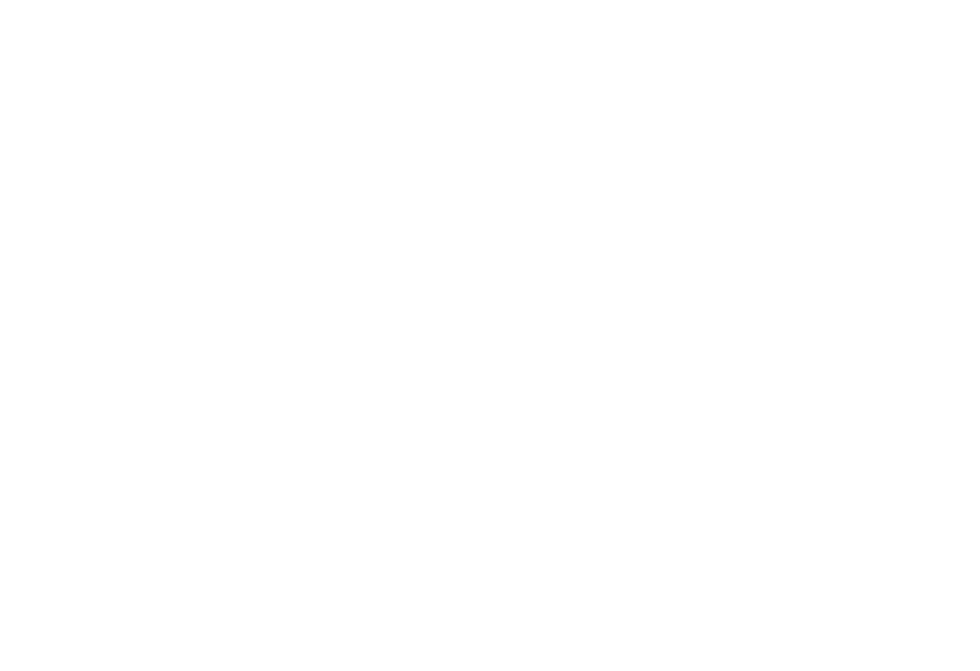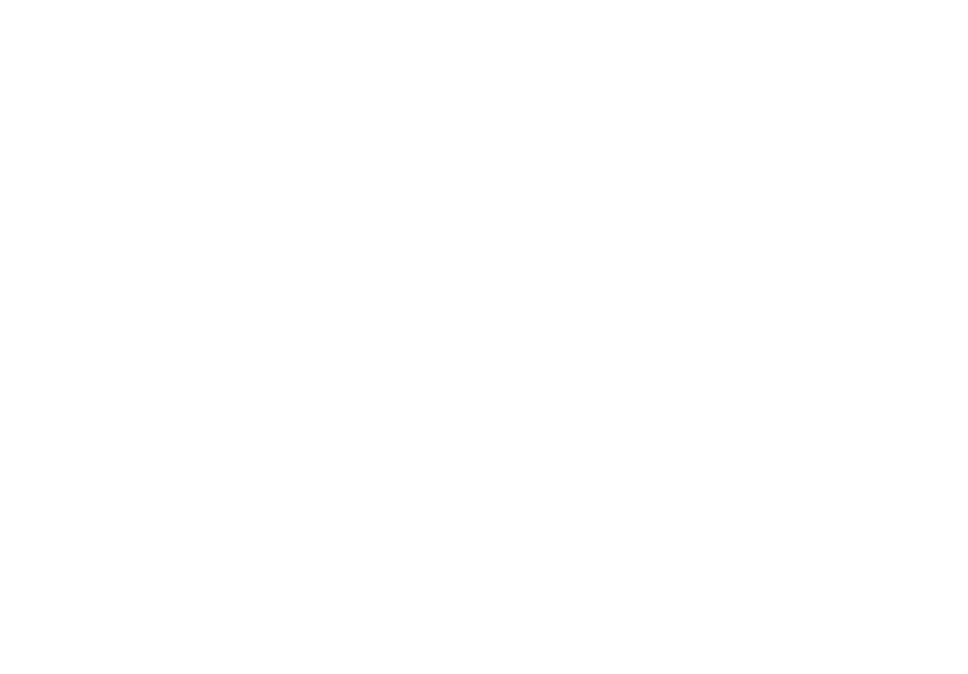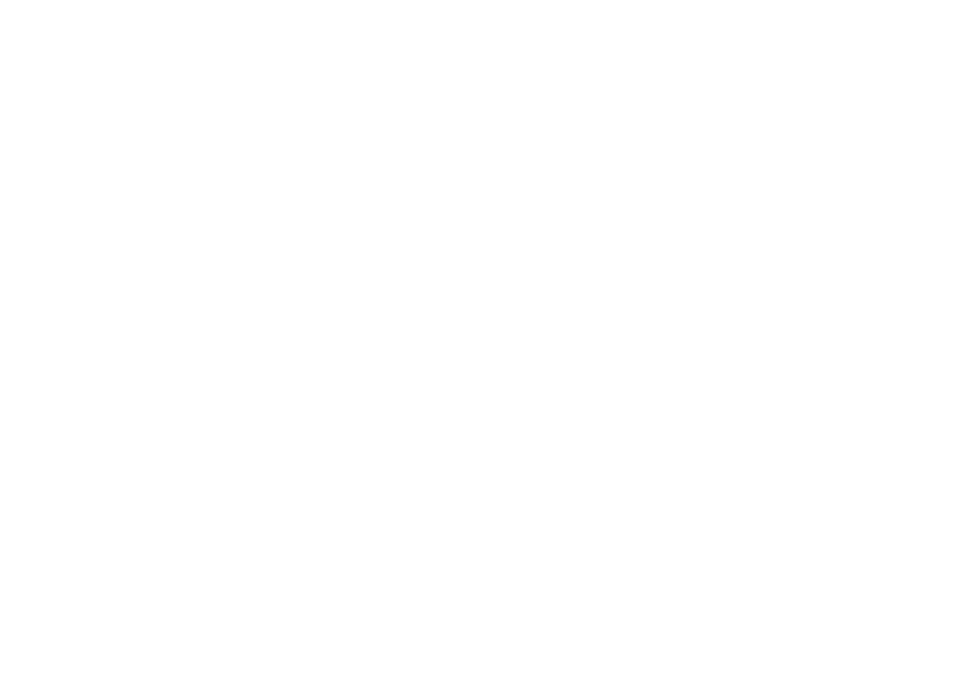Поэмы в прозе (перевод Всегда снега)
Гюстав Анри Ру родился двадцатого апреля 1897-го года в маленькой Водуазской деревне Сен-Леже, на семейной ферме. Там же посещал школу до 1908-го года, пока его семья не перебралась в Карруж. После этого он продолжил своё обучение в Лозанне, где посещал классический коллеж и гимназию.
Выпустившись из гимназии в 1915-м году, поступил в университет Лозанны, где изучал классическую филологию. В это же время в одном из водуазских журналовпубликуются его первые творения.
В период Первой мировой войныпризывается в армию, подпадает под несколько мобилизаций в 1917-ом году, обучается в школе офицеров, дослуживается до звания лейтенанта.
С начала двадцатых годов концентрируется на творчестве, подрабатывает учителем на замену в нескольких коллежах, издаёт первый том своих сочинений под заглавием Adieu – россыпь поэтических текстов, в которых главным образом воспевается водуазский край, в его скромном великолепии, скрытом от глаз остального мира – посылает один из экземпляров Шарлю Фердинанду Рамю.
1927-1929-е годы – в лечебном санатории из-за туберкулёза.
Тридцатые годы омрачены кончиной обоих родителей. Работа редактором в переодическом журнале под руководством Рамю, в котором Ру издаёт свои первые переводы Новалиса, Гельдерлина и Рильке; знакомство с Морисом Шаппа.
В дальнейшие годы издаёт свои главные труды (Pour un moissonneur, l'Air de solitude, Haut Jorat, Requiem); знакомится с Филиппом Жаккоте, занимается литературными переводами творений немецкоязычных авторов, также, являясь страстным фотографом делает множество прекрасных снимков: главным образом, фотопортреты деревенских жителей, пахарей, сборщиков урожая, перемежающивающиеся сельскими видами, запечатлёнными в нагорье Жора..
До конца своих дней вёл скромное существование, почти бедное, вместе со своей сестрой, на семейной ферме, в Карруже. Скончался 10-го ноября, 1976-ого года. На русский язык творения Гюстава Ру, до сей поры, не переводились.
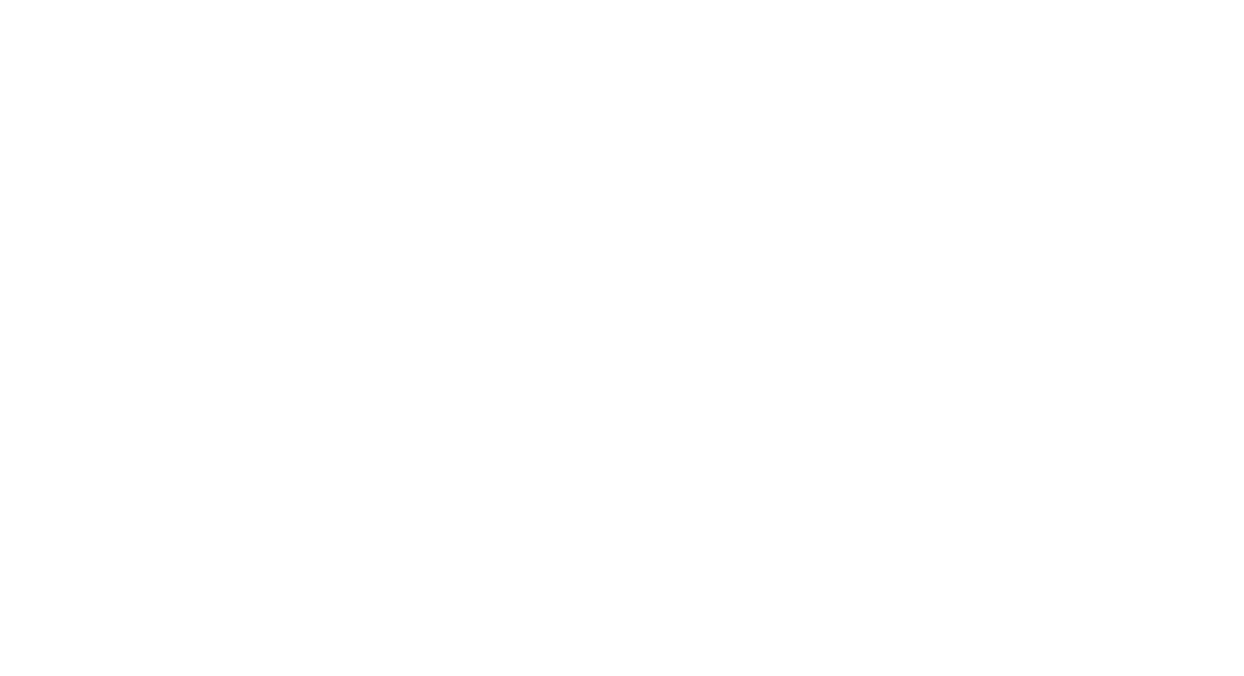
Вот уж действительно как всё это быстро, соскальзывание умирающего сезона в сезон приходящий! Ещё вчера (по крайней мере мне кажется, что вчера), эта величественная земля под палящим сентябрьским солнцем отдавалась плугам. Сквозь прерии из короткой травы они пронеслись словно лезвия, оставив румяные раны, становящиеся, час за часом, всё шире. На конце последней бороздки Фернанд, его обнажённые, отливающие золотом плечи как в разгар лета, одна рука над поблёскивающим оралом, другая, подносящая к губам яблочный плод, столь красный, что небо вокруг него пробудилось отчётливо-нежной синевой. Во время перерыва уставшие лошади провалились в сон и их склонившиеся, дремлющие гривы обнажили в клочках продолговатую ленту горизонта, гряды холмов, миниатюрные, аккуратно выведенные деревеньки, с точно подсчитанным количеством крыш и деревьев, разнообразных цветов, расположенных друг подле друга, без какого-либо изъяна, едва выцветших в гранулах воздуха, созревших подобно золотому вину.
(Да, этот неуловимый алый букет на краю небосвода, несомненно был силуэтом Вилар-ле-Комт – но смеем ли мы утверждать об этом теперь, когда деревни утратили свои названия, а обезглавленные стебельки указателей печально заявляют о своём разрыве с крещением? Какая разница, позволим мы себе вполголоса повторять это прекрасное имя, скрашивающее так славно промежуток антракта –протяжение ряда раскалённых домов вдоль северной дороги, один за другим, а затем покрывала лугов, расстилающихся снова и снова, а после них – высоченные леса, остеклённые льдом... На следующий год мы отправимся туда вместе, не так ли, и ты увидишь это в том свете, в котором видел я, лёжа на краю долины зрелых урожаев, опираясь на глубокий разрез голубого и жёлтого, где утренний ветер смешивается с запахом цветущего клевера и горячего сена, живые тени, поблёскивающие косы, крик петухов. И ты узнаешь о многих других деревнях, таких как: Нейруз, Денези, Вюиссан, об их худощавых часовнях, подобных золотым карандашикам, об онемевших коврах из цветов, которые тамошние молодые девушки обычно расстилают к празднику Тела и Крови Христовых. И эту иссера-бледную отметину посреди холма – Фулавернёй дом моего прадеда и его сыновей, большое наклонное сооружение, в котором я однажды был гостем – сплётшее узелок в моём сердце – тщетно пытаясь связать моё тогдашнее присутствие там, с историями далёкого прошлого: бесконечные урожаи, деревенские торжища, на которые мы каждую неделю ходили, августовский день, когда мы привезли более девятисот узелков.)
Земля посева и в течение многих недель, земля колокольного звона. Каждое утро река из шумных табунов следует вдоль русла дорог, выходит из берегов и медленно затопляет сельскую местность. Время от времени небо меняется и наполняется неосязаемыми стадами облаков или пара, а ветер становится пастухом. Тень этих небесных стад беспорядочно скользит над земными ватагами. Пастух, по имени Роберт, больше не узнаёт своих зверей под развевающимися накидками дня и ночи. Пастух по имени Роберт, спутник лета, сколько времени прошло с тех пор, когда под преломляющейся тенью вишнёвого дерева твой хозяин наливал нам розовое вино утреннего досуга. Своей грузной ладонью ты крепко прижимаешь тёмную буханку к своей ещё более тёмной загоревшей груди, буханку, которую следовало нарезать толстыми ломтиками; из-под ленты шляпы твоей – первая июньская роза. И вот ты стоишь в своей старой одежде землистого цвета, твоё лицо и руки раскраснелись от северного ветра и горькой зелени притоптанной травы, твои онемевшие пальцы сжимают кнут...Там же, в почти покинутых фруктовых садах, последние яблони были обобраны, их сладкие маленькие плоды будут превращены в пюре. Дерево вздрагивает и фрукты градом бьются о траву, издавая звук, узнаваемый среди тысячи многих, короткий удар приглушённого барабана и ворох стеснительных листьев, косо планирующих, подобно стае перелётных птиц. И вот сокровенный человек уже бредёт по направлению к одной из яблонь, пытаясь выискать наиболее благодатную ветвь. Маленькая девочка опускается на колени рядом с корзинкой и кашляет... Ах эта дрожь предзакатной поры, окутывающая всё тело и самое главное, сердце! Затем, внезапно, две снежные ночи проводят обряд приношения в жертву листвы. Ступенька возле мельницы тревожит чёрную, покрытую инеем шкурку ясеней. Верба у речного канала, побелевшая словно конская грива, роняет свой дождь из листвы с такой нежностью, что стоячая вода почти не дрожит… В деревне, отдавшейся тишине, без рабочих, охотников, стад, вздымается и опускается, стократно подхваченная, долгая жалоба молотилки. Вдоль дороги проезжают высокие, наполненные мёртвыми снопами телеги, словно летние сокровища, превратившиеся в пепел под бессильным светом солнца. И оттуда же, поднимаясь из долины большими бледными и крадущимися волнами, где пейзаж безмолвно расплывается, холм за холмом, деревня за деревней, пашня за пашней, пожиратель уличных фонарей и звёзд, коварный владыка поздней осени, безбрежный, печальный туман.
Дождь начинает накрапывать, затем резко стихает. Мало-помалу кровь отливает от этих чахнущих деревень, которые я оставляю, одну за другой, без сожаления. Пара кавалеристов проносятся мимо, за ними ещё несколько, с виду потерявшиеся и весёлые. Белая холщовая лента окаймляет их шлемы из-под окрашенных стальных крыльев которых выглядывают розоватые, невинные лица. Они осведомляются, словно бы в присутствии офицеров, и тотчас выходит трактирщик, разливающий им по бокалам вино, цвета золотистого клёна.
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ/Extrême-automne
Qu’il est donc rapide, le glissement d’une saison moribonde vers la saison future ! Hier encore (il semble que c’était hier), ce grand pays sous le soleil sec de septembre s’abandonnait aux charrues. Elles ouvraient dans l’herbe rase des prairies de longues blessures roses d’heure en heure élargies. À la pointe du dernier sillon, Fernand, l’épaule nue et dorée comme au plein de l’été, une main sur le soc éblouissant, portait de l’autre à ses lèvres une pomme si rouge que le ciel autour d’elle avivait son bleu trop doux. Les chevaux las s’endormaient au repos et leurs crinières, en se penchant vers le sommeil, démasquaient par à-coups le ruban d’horizon, ses pans de collines, ses villages minuscules délicatement dessinés, avec le compte exact des toitures et des arbres, leurs couleurs posées côte à côte sans une bavure, à peine amorties au fond de l’air mûri comme un vin d’or.
(Oui, cet imperceptible bouquet rose, là-bas au bord du ciel, c’était Villars-le-Comte – mais ose-t-on le dire encore, maintenant que les villages ont perdu leur nom et que les hampes décapitées des poteaux indicateurs annoncent tristement cette rupture de baptême ? Qu’importe, répétons-le à voix basse, ce beau nom qui peint si bien l’espacement, l’allongement d’une suite de maisons brûlantes bordant le chemin vers le nord, une à une – et puis les prés recommencent et l’on entre bientôt dans une haute forêt glacée… Une autre année nous y monterons ensemble, voulez-vous, et vous le verrez comme je l’ai vu, couché sur le bord d’une vallée de moissons mûres, penché sur cette profonde coupe jaune et bleue où le vent du matin mêle l’odeur du trèfle en fleurs et de la paille chaude, les ombres vivantes et l’éclat des faux, les cloches et les cris. Et vous connaîtrez d’autres villages, Neyruz, Denezy, Vuissens et son église mince comme un crayon d’or, les sourds tapis de fleurs que ses petites filles composent pour la Fête-Dieu. Et cette tache d’un pâle gris, à mi-colline, c’est Foulaverney, la maison de mon arrière-grand-père et de ses fils, un grand domaine penché que j’ai visité jadis, le cœur serré, essayant en vain de lier à ma présence les récits de l’autre siècle : les récoltes infinies, les marchés de la petite ville où l’on descendait chaque semaine, et ce jour d’août où l’on avait rentré plus de neuf cents gerbes.)
Pays de semailles et, pour de longues semaines, pays de cloches. Chaque matin le fleuve des troupeaux sonores suit le lit des routes, quitte ses rives et submerge lentement les campagnes. Parfois le ciel change et se peuple de troupeaux impalpables, nuages ou nuées, avec le seul vent pour berger. L’ombre de ce bétail céleste glisse en désordre sur les troupeaux de la terre. Le berger Robert ne reconnaît plus ses bêtes sous leur mouvant manteau de nuit et de soleil. Berger Robert, compagnon d’été, qu’il est loin le temps où dans l’ombre trouée d’un cerisier, ton maître nous versait le vin rose des « neuf heures » ! Tu tenais à plein poing, serrée contre ta poitrine nue plus sombre qu’elle, la miche où tailler d’énormes tranches, la première rose de juin passée au ruban de ton chapeau. Et maintenant te voici debout dans tes vieux habits couleur de terre, le visage et les mains rosis par la bise et le vert aigre de l’herbe piétinée, un fouet à tes doigts gourds… Là-bas, aux vergers presque déserts, on fait tomber les dernières pommes, ces petites pommes douces qui seront broyées. L’arbre tremble, la grêle des fruits martèle le gazon avec ce bruit que l’on reconnaît entre mille, un bref battement de tambour amorti, et l’oblique essaim des feuilles hésite et se pose comme une troupe d’oiseaux. Déjà l’homme caché va redescendre, quêtant de son soulier aveugle les branches favorables. Une petite fille s’agenouille près des corbeilles et tousse. Ce frisson des fins d’après-midi, ah ! qu’il atteint le corps tout entier et, plus sûrement encore, le cœur ! Et, soudain, deux nuits de neige consomment le sacrifice des feuillages. Le pas près du moulin froisse la dépouille des frênes noire et givrée. Le saule de l’écluse devenu blond comme une chevelure laisse choir son averse de feuilles si doucement que l’eau morte frissonne à peine. Dans la campagne rendue au silence, sans laboureurs, sans chasseurs, sans troupeaux, s’élève et retombe comme une lamentation cent fois reprise la longue plainte des batteuses. On voit passer aux routes de hauts chars de gerbes mortes, comme un trésor d’été devenu cendre sous le soleil sans pouvoir. Et voici monter de la vallée, par grandes vagues blêmes et sournoises où s’effondre sans bruit le paysage, colline après colline, village après village, labour après labour, le dévoreur de lampes et d’étoiles, le perfide seigneur d’extrême-automne, le brouillard.
Une petite pluie crépite puis cesse brusquement. Peu à peu le sang se retire de ces villages moribonds que j’abandonne l’un après l’autre sans regrets.
Des dragons passent, puis d’autres, l’air perdu – heureux d’être perdus. Ils ont une bande de toile blanche autour du casque, d’innocents petits visages roses sous l’aile d’acier peint. Ils s’enquièrent prudemment d’une présence d’officiers possible. D’un saut voici l’aubergiste sur le perron, qui leur verse un vin jaune comme les feuilles.
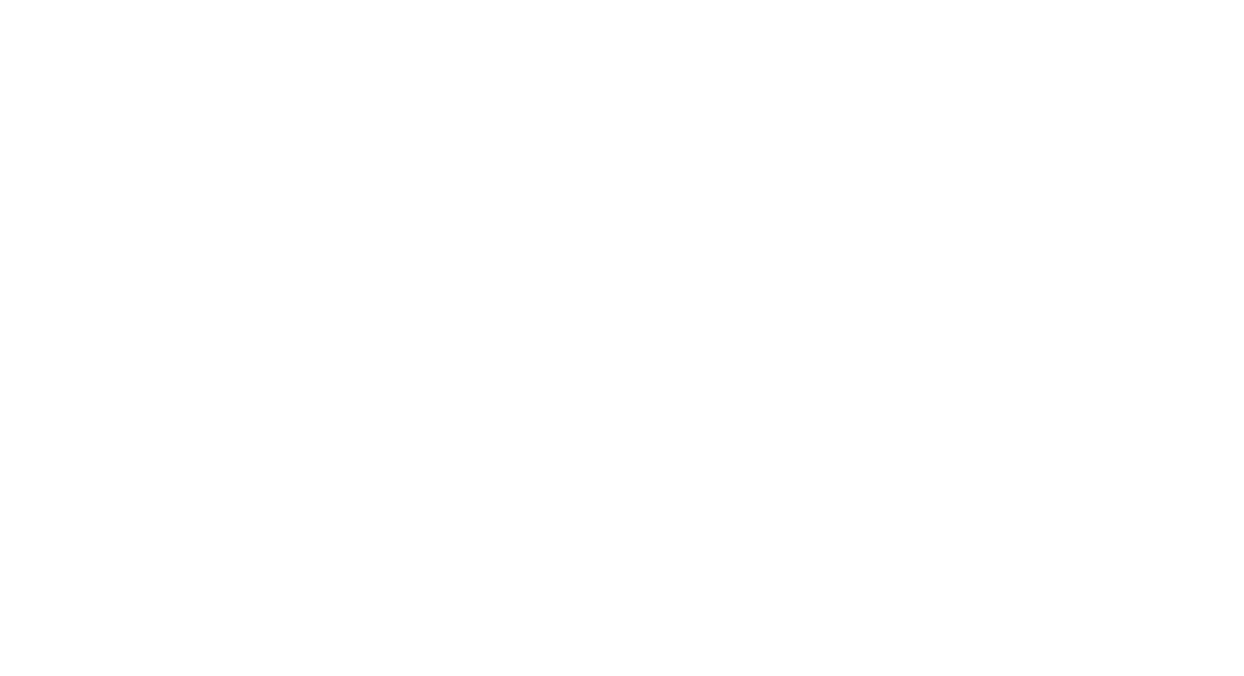
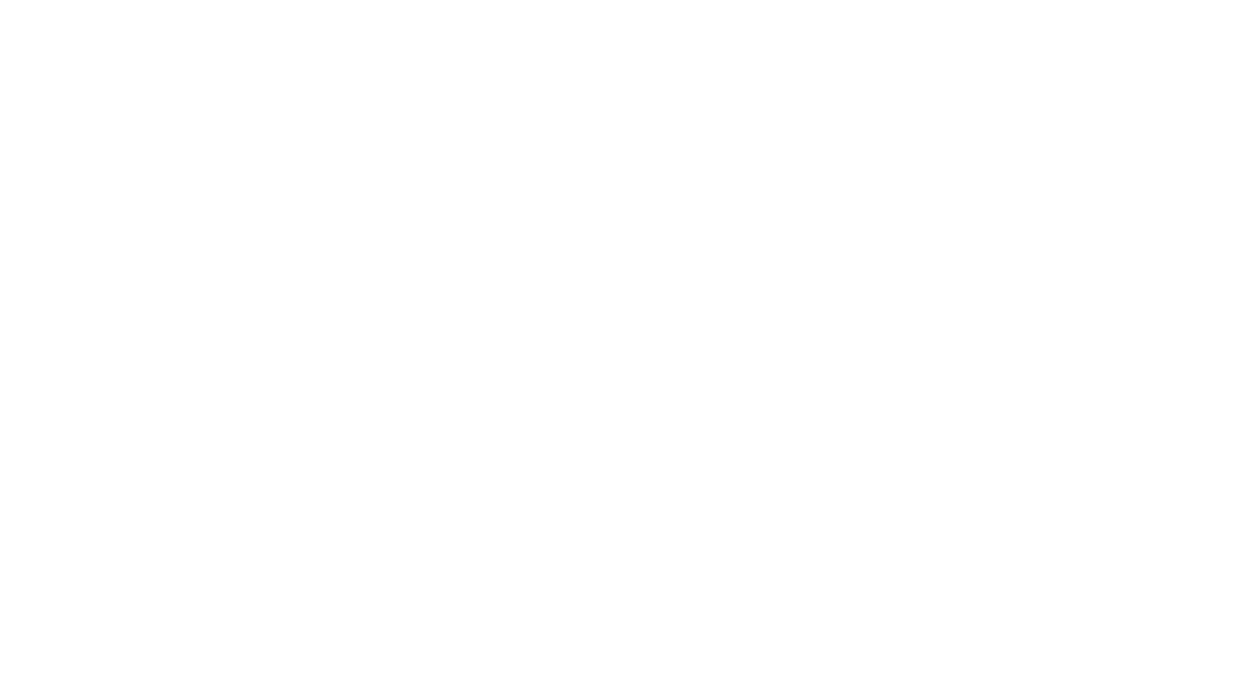
памяти лейтенанта Луиса Феррини
Нисхождение ночи в шесть часов вечера. Мы можем часами бродить в темноте; так как холода ещё не нагрянули. Листва у подножья деревьев поблёскивает, лёжа в грязи. Подобно пчелиному рою, мириады звёзд упорхнули с веток дерев, взгромоздившись на край небосвода. Ночной улей тихонько жужжит, догорает, но всё это тщетно, ноябрь грядёт; очередное созвездие вздымается перед моими глазами, бесконечно перерождаясь, громогласно торжествуя, даже над солнечным светом; пять фонарей вдоль Ольтенского моста, давно это было, Феррини – и ты в больничной палате, агония, ты не хочешь покидать этот мир.
Пять фонарей, каждый из которых несёт свой неизменный посыл в виде пламени, под бесконечно мрачным небом, не из-за дыма от фабрик, так как они не работают, а из-за того, что ноябрь грядёт, и река, действительно мрачная, также приветствует эти пять огоньков, безостановочно вспучивающихся и переливающихся, в соответствии с ритмом монотонно бурлящих речных вод. Там над каждым побережьем возвышаются пучки кустов и деревья цвета ночной темноты, а на мосту, вероятно, упёршись своими локтями во влажный уступ, человек, потерявшийся в городе мёртвых – где эхо шагов караульного, час за часом, громогласно разносится шире – размышляет над старой поэмой, которая его утешает, унося его мысленно в те края, где он был когда-то рождён:
тень от деревьев, на лике туманных вод
растворяется словно дымка
в воздухе,среди ветвей
Так долго печальное было нам близко! Я не имею ввиду, что мы отреклись от ума или сердца, так как с момента, когда разразилась война, мы не могли избежать мобилизации, и для наших сердец и умов слово «граница», слава Богу, едва существует, но, тем не менее, для нас это слово материализовалось с особой и гнетущей силой. Это было уже не просто абстрактной сепарацией, представленной в лучшем случае несколькими пограничными пунктами и работниками таможни, на которую ничто не могло указывать в естественном положении страны; это было очень глубоким разделением на день и ночь или на край одного мира и начало другого.
Здесь дерево оставалось по-прежнему деревом, там лес стал смятением пней, едва распылённых грозой. Здесь дорога, там лента, смягчённая травами, едва начинающими снова вздыматься. Здесь неподдельные облака, там спонтанные клубы дыма, с сердцем румяного пламени и раскатами грома, пронизывающего небосвод.
Я снова могу видеть тот долгий январь, тёплый и влажный, деревня среди неувядающих растений и пастбищ, разделённых низкими, ветхими стенами, с остатками снега в их тени, окаймлённой твёрдой пурпурной линией. Ты возвращался из центра дивизионной подготовки, в который тебя назначили инструктором, с целью внедрения нового метода обучения, состоявшего из преодоления препятствий ползком, на коленях и т.д., если я правильно помню?
Чем-то безжалостным был этот новый способ муштры, в результате которого мы чувствовали себя разбитыми, но в то же время готовыми посмаковать этот вкус полуденного отдыха, в полудремоте, когда сквозь ресницы, словно во сне, видится деревенская девушка, держащая за поблёскивающие поводья двух раскрашенных деревянных коней.. Но не время говорить об этом дольше, чем нужно, к тому же, кого бы всё это растрогало?
И всё-таки, я хотел бы, по крайней мере, дать почувствовать контраст между этими первыми месяцами года, их монотонным развёртыванием (февраль, который был для нас ничем иным, как куропаткой, напуганной пешим патрулем где-то между Ле-Верьер и Л'Оберсон, или «Осенним сном», воспроизводимым каждую ночь механическим пианино, среди дыма и скуки фальшивых ликёров?) и те ноябрьские дни, пришедшие позже, последние, которые ты когда-либо видел, Феррини…
Я оглядываюсь назад на дорогу, вдоль которой мы ковыляли на третий день после перемирия. Утром, в двухстах метрах от неё, перестраивалась длинная батальонная колонна. Какие мысли зиждились во всём этом? Какое-то оцепенение, порождённое торопливым переходом от празднеств, фонарей, колокольного звона, возвещающих мир, наконец возвратившихся (так думалось) к непосредственной реальности того, что могло бы стать гражданской войной, и что началось с покинутых паровозов, хризантем, подбрасываемых встревоженными толпами прямо под ноги, не осмеливающимися улыбнуться – газеты заменены квадратом грязной бумаги размером чуть больше листа платана.
Я и есть эти вновь ушедшие войска, постоянно догоняемые и перегоняемые автомобилями, вместе с перегруженными грузовиками. Солдаты спустились в городок, устроились на ночлег (так они думают) в здание школы, полы наспех застелены соломой, но вечером будет скрежещущий поезд; роты кучкуются рядом с котомками; начинается неизвестность, с тени и песен, в которых звучат подавленный гнев и печаль.
Нечего больше добавить, Феррини. Мы в городе-призраке; с наступлением темноты улицы пустынны, они кажутся ещё более пустынными из-за звука шагов, счёт которых внезапно раздается под навесом старого деревянного моста. На другом мосту горят пять фонарей; река завязывает и развязывает силуэты своих отражений, похожих на длинные, жидкие пряди волос. Начинается всеобщая забастовка, армия, как того требует военный устав, восстанавливает порядок, и всё. На станциях стоят часовые; взвод охраны в вестибюле кинотеатра; солдаты едят в столовой автозавода. Всё так спокойно теперь, когда наша работа окончена: люди счастливы, они предлагают чашечку чая в маленьких спальнях с вышитыми узором подушками для сидения...
Феррини, ах! Ты в больничной палате и день ото дня она пополняется новоприбывшими. Нам перечисляют те ужасы, которым ты подвергался, лихорадки, ярости, бред, но нам надо идти, и мы знаем, что больше тебя не увидим.
На обширной площади вдоль озера, к которому мы вскоре вернулись, остатки войск распадаются на части: батальоны превращаются в роты, роты же в отделения. Из всех, кого мы покинули, сколько от них останется, когда они вернутся домой? Я снова пришёл, чтобы увидеть могилу у подножья которой мы распрощались с тобой навсегда вместе с другими (можно вспомнить списки погибших в тогдашних газетах), но только твоя покоится в сердцевине моего подсознания...
Твоя могила, что в маленьком городке, затерянном на широкой равнине, где ивы, как дети, боясь потеряться, хватают друг друга за руки и плавно кружатся беспорядочными кольцами, порхающими на фоне раскинувшегося позади горизонта.
Город, где маячили высокие фабричные трубы, источавшие свой собственный дым, и река, чуть менее протяжённая, чем та, у которой мы отдыхали в тот ноябрьский полдень. «Тень от деревьев, на лике туманных вод...» Строки той старой поэмы, ещё раз мерцающие вместе с пятью фонарями, перемешивающиеся с музыкой духового оркестра и словами походных маршей. И помнишь ещё одну вылазку в марте? Казалось, весна остановила свой натиск и отправилась в путь вместе с нами. Мы снова нашли то первое озеро, путь лежал вдоль посадок из обнажённой виноградной лозы. От города к городу воздух становился всё мягче, и мы пили его большими глотками, словно сладкий, прохладный ликёр.
То место привала, в саду, у подножия замка, возвышавшегося своими пепельными башнями на фоне лучей заходящего солнца. Ты молчишь, держа в зубах первую фиалку, вырванную из вороха мёртвой листвы.
«Что если бы мы вдруг вернулись туда?» – один или другой голос порой вопрошает, имея в виду те места, которые мы изведали когда-то давно. Что я могу на это ответить? Такие ли мы, как и раньше? Изменились ли места наших странствий? К чему мы могли бы вернуться? К кому? Я не знаю, какое безумство меня обуяло, когда я осмелился расспросить силуэты пришедших оттуда. На каждое имя неизменно отзывался один лишь ответ: «мёртвый, покойник» – и я понял, что лучше представать беззащитным, перед воспоминаниями кого-то другого.
Если толпы теней, осмелев в отсутствие клинков, повлекут тебя за собой, какое это имеет значение? Что может быть более живым, чем тень, распластавшаяся вдоль другой?
В конце концов, в тот момент, когда я тебя покидаю, прося у тебя прощения за всю эту пустую и глупую речь, я прощаюсь с тобой навсегда, с каким-то ужасом чувствуя, что слова мои теряют какой либо смысл, и ты шепчешь мне строчки той самой поэмы, которые я так долго лелеял, не решаясь понять их значения:
жить или не жить – воображаемые решения
подлинное существование всегда ускользает.
Возле могилы, которую я снова отыскал, с великим трудом, осина потрескивает на осеннем ветру, гоняющем под тусклой заплаткой бледного солнца иссера-жёлтые облака. Крест розовых хризантем, лежит на мраморном гравии. На момент мне показалось, что в лепестках застряла мёртвая пчёлка, судя по всему, одна из тех, которые обычно обитают в октябрьских садах. Я коснулся её кончиком пальца, и она ожила..
Быть может, его родители всё ещё здравствуют... «попытаться найти их, написать им письмо, но что им сказать?»
«Поделиться воспоминаниями его сослуживца, в банальном, бесхитростном виде: погиб за родину, в свои двадцать пять» – это было как будто вчера. Другие же теперь обитают в тех же местах, из которых мы вышли – в сельской угрюмой глуши, состоящей из вечнозелёных растений и пастбищ, окружённых ветхими заборами, с которых свисают пушки, перечёркнутые тенью снежного цвета. Будто бы другой мир...
Но солнце временами было столь приторным, что вкус прежней жизни возвращался к нашим губам, и мы стояли безмолвно. Затем, в стремительном выпаде, ты рисовал своей саблей какой-то фехтовальный приём, а я, упёршись глазами в бинокль, смущённый, убаюканный податливыми волнами прозрачного воздуха, снова начинал созерцать мёртвые леса земли, отданной на откуп зверям.
Ты стоишь подле меня, твои губы сомкнуты. Полноценная жизнь, какой бы жестокой она ни была, как можно было думать о ней с проблеском грусти? Быть может, ты понимаешь, что я действительно готов смириться, и, что моя дружба конечна, так как здешний одичалый куст розы снова касается моей руки своими шипами, будто взывая меня к твоей могиле. И когда я пытаюсь освободиться, невидимые силы начинают упорствовать, в результате чего рукав моего пиджака разрывается. Ах! моя мимолётная тень на твоём хризантемном кресте была невесомей пчелы, но слишком тревожной для твоего вечного сна, потому что это тень земной жизни – и кто знает, какое потрясение вырвало тебя из оцепенения, с какой жалобой ты старался изо всех сил до меня достучаться, издавая яростный вопль. Это было вероятно неловким зовом, как и все призывы, с которыми те, кто находятся вне времени, взывают к тем, кто всё ещё заточён внутри него. Вот почему я не знал, как расслышать твой вопль. Вот почему живые всегда несведущи.
СТАРОДАВНИЙ НОЯБРЬ/Novembre ancien
À la mémoire du lieutenant Louis Ferrini
La nuit tombe vers les six heures. On peut marcher longtemps dans le noir ; il fait doux encore. Les feuilles sous les arbres luisent dans la boue. Comme un essaim d’abeilles les étoiles ont quitté les branches avec les feuilles et sont remontées au ciel. La ruche nocturne silencieusement bourdonne et brûle. En vain. C’est novembre qui commence ; une autre constellation se lève dans mon regard, sans cesse renaissante, victorieuse du soleil même ; les cinq lampes sur un des ponts d’Olten, voici des années, Ferrini – et tu es à l’hôpital, tu agonises, tu ne veux pas mourir.
Cinq lampes soutenant comme une note sans défaillance un feu fixe, sous le ciel très sombre, non pas à cause des fumées d’usines, puisque les usines sont fermées, mais parce que c’est novembre, et le fleuve très sombre lui aussi accueille ces cinq feux comme un thème qu’il distend et déforme sans fin selon le bouillonnement de ses eaux monotones. Sur chaque rive il y a des touffes d’arbrisseaux et d’arbres couleur de nuit, et sur le pont peut-être, accoudé à la barrière humide, un homme perdu dans une ville morte où résonne d’heure en heure le pas des patrouilles, et remâchant un vieux poème qui le situe, tant il semble né de ce paysage même :
« L’ombre des arbres dans la rivière embrumée
Meurt comme de la fumée
Tandis qu’en l’air parmi les ramures réelles… »◂
Si longtemps nous avions côtoyé le tragique ! Je ne veux pas dire que nous n’y participions pas par le cœur ou l’esprit, car depuis le début de la guerre nous ne pouvions pas n’être pas engagés, et pour le cœur et l’esprit n’existe guère, par bonheur, le mot « frontière », mais cependant ce mot s’était matérialisé pour nous avec une puissance singulière et comme accablante. Ce n’était plus seulement une séparation abstraite, figurée tout au plus par quelques bornes et des douaniers, que rien n’eût suggérée dans la disposition naturelle du pays ; c’était une rupture très profonde, la nuit et le jour, la fin d’un monde et le commencement d’un autre. Ici un arbre était encore un arbre, là-bas une forêt était devenue un fouillis de fûts à demi pulvérisés par la foudre. Ici une route, là-bas un ruban feutré par l’herbe qui recommence. Ici de vrais nuages, là-bas des nuages pareils à des vapeurs instantanées, avec un cœur de feu rose et ce coup de tonnerre qui troue le ciel.
Je revois ce long mois de janvier 18, doux et humide, ce village parmi les sapins et les pâturages coupés de murets croulants que la neige demeurée dans leur ombre cernait d’un dur trait violâtre. Tu revenais du C. I. D., comme l’on disait, un « centre d’instruction divisionnaire » où s’élaborait une gymnastique nouvelle qu’on te charge d’enseigner, debout au centre d’une piste carrée qu’il fallait suivre, en rampant, en pliant les genoux, que sais-je encore ? Quelque chose d’inexorable que compliquait une piste d’obstacles et qui nous laissait rompus, mais prêts alors à goûter le repos d’après-midi et ces demi-sommeils où l’on suit entre les cils comme en rêve une fille du village guidant avec des rênes miroitantes deux chevaux de bois peint. Ce n’est pas ici le lieu d’en dire davantage, et d’ailleurs qui se sentirait touché par ces choses ? Mais j’aurais voulu tout au moins faire sentir le contraste entre ces premiers mois de l’année, leur déroulement monotone (février fut-il autre chose pour nous que ce coq de bruyère effrayé par une patrouille quelque part entre Les Verrières et L’Auberson, ou Rêve d’automne ◂ repris chaque soir par un piano mécanique, parmi les fumées et l’ennui des liqueurs fausses ?) et ces journées de novembre qui vinrent plus tard, qui sont les dernières que tu aies vues, Ferrini, et tant d’autres avec toi.
Je regarde la route où nous avons passé, le troisième jour depuis l’armistice. À deux cents mètres d’ici la longue colonne des bataillons s’était reformée au matin. Quelles pensées l’habitaient ? Une sorte de stupeur née de ce brusque passage des fêtes, des feux, des cloches de la paix enfin retrouvée (croyait-on) au réel immédiat de ce qui pouvait devenir une guerre civile et qui commençait par des locomotives abandonnées, des chrysanthèmes qu’une foule inquiète vous lance sans oser sourire – les journaux remplacés par un carré de papier sale un peu plus grand qu’une feuille de platane. Je suis cette troupe qui est repartie, sans cesse rejointe et dépassée par des automobiles et des camions surchargés. Elle est descendue dans la petite ville, s’est installée pour la nuit (pense-t-elle) dans le grand collège garni de paille à la hâte, mais il y aura un train dans la soirée ; les compagnies autour des faisceaux se regroupent ; c’est l’inconnu qui commence, avec l’ombre et des chants où sonnent une colère contenue et de la tristesse aussi.
Il n’y a rien à raconter, Ferrini. Nous sommes dans une ville morte ; à la nuit tombante les rues sont désertes, plus désertes encore d’un bruit de pas scandés qui résonne tout à coup sous le couvert du vieux pont de bois. Sur un autre pont cinq lampes sont allumées ; le fleuve noue et dénoue leurs reflets comme de longues chevelures liquides. Une grève générale éclate, l’armée, ainsi que le veut le Règlement de service, rétablit l’ordre ; c’est tout. Il y a des sentinelles à la gare ; un corps de garde dans le vestibule d’un cinéma ; des soldats mangent au réfectoire d’une fabrique de camions. Tout est si calme, à présent que notre tâche est finie : les gens sont heureux, ils offrent du thé dans de petites chambres pleines de coussins à devises… Ferrini, ah ! tu es à l’hôpital, et chaque jour d’autres y sont conduits. Vos terribles fièvres, vos colères, vos délires, on nous les raconte. Il faut repartir sans vous avoir revus. Sur la vaste place au bord du lac bientôt retrouvée, un squelette de troupe se disloque : des bataillons devenus des compagnies, des compagnies devenues des sections. De tous ceux que nous avons abandonnés, combien reviendront-ils ?
*
J’ai revu cette tombe autour de laquelle, voici combien d’années ? nous t’avons dit une espèce d’adieu. Et d’autres tombes encore (on se rappelle peut-être les pages de deuils dans les journaux d’alors) – mais c’est la tienne qui reste au centre de ma mémoire, et puisqu’il m’est donné de rompre une fois le silence où elle gît, pourquoi la quitterais-je déjà ? Elle est près d’une petite ville perdue dans la plaine où les saules, comme des enfants qui ont peur d’être seuls, se donnent la main, nouant jusqu’à l’horizon leurs rondes désordonnées. Une ville où il y a aussi de hautes cheminées d’usine – mais elles ont leur fumée celles-là – et un fleuve aussi, moins vaste que l’autre où nous nous sommes penchés par un même après-midi de novembre. « L’ombre des arbres dans la rivière embrumée… » Le vieux poème une fois encore s’illumine avec les cinq lampes, parmi des musiques de cuivre, des chansons de marche. Et te rappelles-tu cet autre retour, en mars ? Il semblait que le printemps s’était arrêté et repartait avec nous. On retrouvait un premier lac, la route longeait des vignes encore nues. De village en village l’air était plus doux que l’on buvait à larges gorgées, comme une liqueur sucrée et tiède. C’est une halte dans un verger, près du château qui élève contre le couchant ses tours de cendre. Tu ne dis rien, ayant aux dents la première violette arrachée à son nid de feuilles mortes.
« Si nous y retournions ? » me propose parfois l’un ou l’autre, songeant à ces lieux jadis traversés. Que répondre ? Sommes-nous les mêmes, ces lieux sont-ils les mêmes ? Que retrouverions-nous ? Qui retrouverions-nous ? Je ne sais quelle folie m’a fait un jour interroger quelqu’un de là-bas. À chaque personnage évoqué : « Mort, mort », c’était toujours la même réponse. Mieux vaut encore être livré sans défense à sa mémoire. Si tant d’ombres que l’absence de glaive enhardit vous entraînent avec elles, qu’importe ? Quoi de plus vivant peu à peu qu’une ombre pour une ombre ? Au moment de te quitter enfin, de te demander pardon pour toutes ces vaines paroles, de te redire adieu, je sens avec une sorte d’effroi mes phrases perdre tout leur sens, et c’est toi qui me redis à mi-voix ces mots d’un poète que si longtemps j’ai répétés sans oser tout à fait les comprendre : « C’est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L’existence est ailleurs. »◂
Près de la tombe – que j’ai retrouvée avec tant de peine – un peuplier-tremble grésille dans le vent d’automne qui ramène sur un bref soleil les nuées jaunes et grises. Une croix de chrysanthèmes roses, couchée sur le gravier de marbre. J’ai cru qu’il y avait une abeille morte prise au cœur des pétales, mais touchée du doigt, c’est – vivante – une de ces fausses abeilles qui hantent les jardins d’octobre.
Pas une fleur à jeter là. Il y a peut-être des parents qui vivent encore… Les rechercher, leur écrire – mais quoi ? Un homme se souvient ici, c’est tout. Tout est si simple :
Mort pour son Pays
Vingt-cinq ans – c’était hier. D’autres maintenant vivent où nous vivions jadis, dans ces sombres paysages faits de sapins et de pâturages que des murets croulants où s’accrochent les fusils rayaient d’une ombre couleur de neige. Un autre monde… Mais le soleil était si doux parfois que le goût de notre vie ancienne nous revenait aux lèvres et nous restions sans rien dire. Puis, d’un bond debout, déjà tu dessinais du sabre nu quelque figure d’escrime, et les yeux aux jumelles, je recommençais à contempler, brouillées, bercées aux molles vagues d’un abîme d’air transparent, les forêts mortes d’un pays livré aux bêtes.
Tu es près de moi, lèvres scellées. Une vie accomplie, si brutal qu’ait été cet accomplissement, comment y songer avec l’ombre même d’une tristesse ? Mais tu trouves peut-être que j’ai la résignation bien facile et l’amitié peu sûre, car voici qu’un rosier redevenu sauvage me touche au bras comme pour me rappeler près de ta tombe. Et comme j’essaie de me dégager, sans comprendre, il insiste, et la manche de mon manteau se déchire. Ah ! mon ombre d’un instant sur ta croix de chrysanthèmes était plus légère qu’une abeille, mais trop lourde à ton sommeil, parce que c’est une ombre terrestre – et qui sait quel sursaut est venu rompre ta torpeur, quelle plainte tu as essayé, de toutes tes forces, de jeter jusqu’à moi comme un cri ? Maladroite, comme tous les appels que ceux qui sont hors du temps haussent ou murmurent à ceux qu’il emprisonne encore. C’est pourquoi je n’ai pas su l’entendre. C’est pourquoi les vivants ne les entendent jamais.