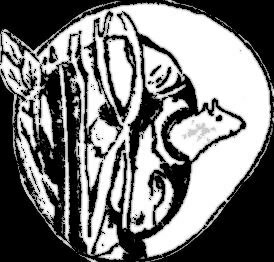Иван Плотников
Живёт в Екатеринбурге.
Кандидат филологических наук.
Один из авторов подкаста "Междуречье".
Лауреат премии им. А. Верникова "За молодую зрелость" (2021).
Стихи публиковались в журналах "Урал", "Кварта", "Крещатик", "Флаги" и др.
Автор книги стихов "Небо споёт само".
Кандидат филологических наук.
Один из авторов подкаста "Междуречье".
Лауреат премии им. А. Верникова "За молодую зрелость" (2021).
Стихи публиковались в журналах "Урал", "Кварта", "Крещатик", "Флаги" и др.
Автор книги стихов "Небо споёт само".
Лишнее яблоко
Рецензия на книгу Вадим Балабан. Я вроде в ворде
— Издательство книжного магазин «Поэзия», 2024.
— Издательство книжного магазин «Поэзия», 2024.
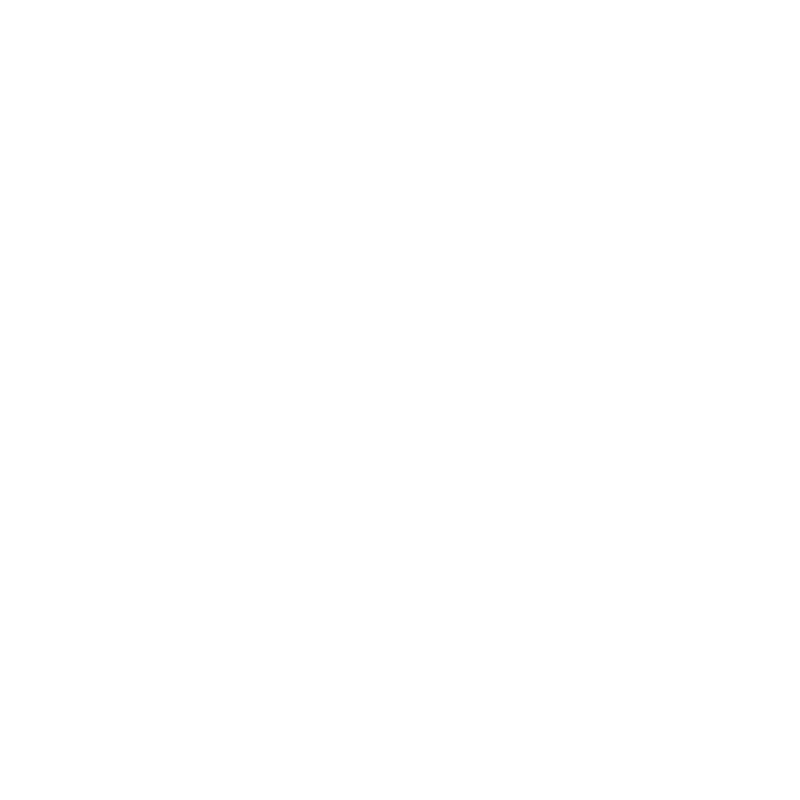
В аннотации к книге Вадима Балабана упоминается цитата Льва Оборина о «разнообразности» автора, и, кажется, взята она неслучайно, поскольку одна из главных отличительных черт стихов из книги — это именно их разнообразие. Балабану подвластна любая форма стиха. В таком случае интереснее выделить то, что все же эти стихи объединяет. В первую очередь, отмечу, что речь автора часто состоит из неполных предложений:
«плыви не угасай
не обливайся слёзно
окрестности кусай
когда они морозно».
В некоторых случаях правильнее сказать: из одного предложения, когда в тексте нет знаков препинания, кроме точки в конце. Иногда и её нет. Всё это похоже на разные степени интроверсии, автор словно говорит с собой и в себе, и нет необходимости говорить полными предложениями, следовать всем правилам пунктуации (например, знаки препинания могут стоять в начале строки, а не в конце), уже привычно для себя Балабан не использует заглавных букв, кроме случаев с именами собственными.
Игра слов в названии так же как бы намекает на интроверсию: поэт в самом тексте, в вордовском документе, а не в том, о чем пишет, и ему в нем комфортно говорить так, не обременяя себя правилами и нормами, но не уходя в пёструю вседозволенность, поскольку, как сказано в той же аннотации, Балабан стремиться в идеале произносить невыразимое. И, говоря о невыразимом, хочу полностью процитировать данное стихотворение:
случайные прохожие леса́
покалывают туловище света
и он рябит наверное за это
раскручивая обод колеса
за это он выталкивает нас
сквозь алюминий сыплющийся сбоку
разматывая мутную дорогу
текущую из заострённых глаз
В этом стихотворении мне видится метаморфоза: первично движение совершают не люди, а леса. Колесо, раскручивающееся за счет этого, — это конечно солнце. А его свет уже выталкивает и заставляет двигаться нас, людей. И образ «покалывания» здесь тоже строится по принципу домино: леса покалывают туловище света, свет колет нам глаза, но и сами наши глаза становятся от этого «заострёнными» (прищуренными). Значит, и они что-то «покалывают»? Действие совершается над нами для того, чтобы и мы затем совершали действия, к которым можно, пожалуй, отнести саму поэтическую речь. В такой поэзии «недомолвок» к конкретике может быть сведен только бред, а неконкретное парадоксальным образом будет наоборот более ясно:
«где трамвай прозвенит ключами
заливая ночное дно
я в бреду говорю ночами
что к конкретике сведено».
То, что Балабан — уральский автор, подсказывает не только присущая Уралу тяга к метареализму (к ней можно отнести описанную трансформацию в стихотворении «случайные прохожие леса́...»), но и упоминания других уральских поэтов в стихах, которые бы хотелось отметить отдельно. Это посвящение Александру Петрушкину («говори говори до и после...») и стихотворение про Евгения Туренко («мелочится по Тагилу...»). В этих стихотворениях автор так же стремится сказать невыразимое, чтобы выразить опыт других поэтов и поэтов вообще. Что конечно только так и возможно сделать — стихами.
Чтобы подытожить и описать, каким мне он представляется, опыт самого Балабана, приведу строчки из другого его стихотворения: «у яблони яблоко лишнее / можно ли поклевать». Поэт достаточно сдержан, чтобы просить разрешения (у кого-то), и достаточно смел, чтобы определить, что яблоко лишнее (почему-то). Такой чёткий баланс, проявляющийся, кстати, в любой поэтической форме, делает это лишнее (как сама поэзия) яблоко самым ценным на всей яблоне.
«плыви не угасай
не обливайся слёзно
окрестности кусай
когда они морозно».
В некоторых случаях правильнее сказать: из одного предложения, когда в тексте нет знаков препинания, кроме точки в конце. Иногда и её нет. Всё это похоже на разные степени интроверсии, автор словно говорит с собой и в себе, и нет необходимости говорить полными предложениями, следовать всем правилам пунктуации (например, знаки препинания могут стоять в начале строки, а не в конце), уже привычно для себя Балабан не использует заглавных букв, кроме случаев с именами собственными.
Игра слов в названии так же как бы намекает на интроверсию: поэт в самом тексте, в вордовском документе, а не в том, о чем пишет, и ему в нем комфортно говорить так, не обременяя себя правилами и нормами, но не уходя в пёструю вседозволенность, поскольку, как сказано в той же аннотации, Балабан стремиться в идеале произносить невыразимое. И, говоря о невыразимом, хочу полностью процитировать данное стихотворение:
случайные прохожие леса́
покалывают туловище света
и он рябит наверное за это
раскручивая обод колеса
за это он выталкивает нас
сквозь алюминий сыплющийся сбоку
разматывая мутную дорогу
текущую из заострённых глаз
В этом стихотворении мне видится метаморфоза: первично движение совершают не люди, а леса. Колесо, раскручивающееся за счет этого, — это конечно солнце. А его свет уже выталкивает и заставляет двигаться нас, людей. И образ «покалывания» здесь тоже строится по принципу домино: леса покалывают туловище света, свет колет нам глаза, но и сами наши глаза становятся от этого «заострёнными» (прищуренными). Значит, и они что-то «покалывают»? Действие совершается над нами для того, чтобы и мы затем совершали действия, к которым можно, пожалуй, отнести саму поэтическую речь. В такой поэзии «недомолвок» к конкретике может быть сведен только бред, а неконкретное парадоксальным образом будет наоборот более ясно:
«где трамвай прозвенит ключами
заливая ночное дно
я в бреду говорю ночами
что к конкретике сведено».
То, что Балабан — уральский автор, подсказывает не только присущая Уралу тяга к метареализму (к ней можно отнести описанную трансформацию в стихотворении «случайные прохожие леса́...»), но и упоминания других уральских поэтов в стихах, которые бы хотелось отметить отдельно. Это посвящение Александру Петрушкину («говори говори до и после...») и стихотворение про Евгения Туренко («мелочится по Тагилу...»). В этих стихотворениях автор так же стремится сказать невыразимое, чтобы выразить опыт других поэтов и поэтов вообще. Что конечно только так и возможно сделать — стихами.
Чтобы подытожить и описать, каким мне он представляется, опыт самого Балабана, приведу строчки из другого его стихотворения: «у яблони яблоко лишнее / можно ли поклевать». Поэт достаточно сдержан, чтобы просить разрешения (у кого-то), и достаточно смел, чтобы определить, что яблоко лишнее (почему-то). Такой чёткий баланс, проявляющийся, кстати, в любой поэтической форме, делает это лишнее (как сама поэзия) яблоко самым ценным на всей яблоне.