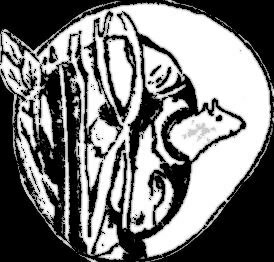Михаил Корюков
родился в 1991 году в г. Каменске-Уральском Свердловской области.
Окончил Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства города Екатеринбурга.
Организатор двух поэтических фестивалей «Воробей-фест» (2016 и 2017) в Каменске-Уральском.
Лонг-листы премии им. Евгения Туренко (2016), российско-итальянской литературной премии «Белла» (2017) и др.
Стихи публиковались на порталах «Мегалит», «Полутона», в журналах «Волга», «Новая Реальность», «Вещь», в антологии молодой уральской поэзии «Шепчутся и кричат» (Челябинск, 2016) и др.
Автор трёх книг стихов «Место будущего шрама» (2014), «Сильнее сейчас» (2016) и «Климатический мигрант» (2024).
Окончил Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства города Екатеринбурга.
Организатор двух поэтических фестивалей «Воробей-фест» (2016 и 2017) в Каменске-Уральском.
Лонг-листы премии им. Евгения Туренко (2016), российско-итальянской литературной премии «Белла» (2017) и др.
Стихи публиковались на порталах «Мегалит», «Полутона», в журналах «Волга», «Новая Реальность», «Вещь», в антологии молодой уральской поэзии «Шепчутся и кричат» (Челябинск, 2016) и др.
Автор трёх книг стихов «Место будущего шрама» (2014), «Сильнее сейчас» (2016) и «Климатический мигрант» (2024).
"О поэтической книге В. Балабана - “Я вроде / в ворде”"
(издательство книжного магазина «Поэзия». Челябинск, 2025)
(издательство книжного магазина «Поэзия». Челябинск, 2025)
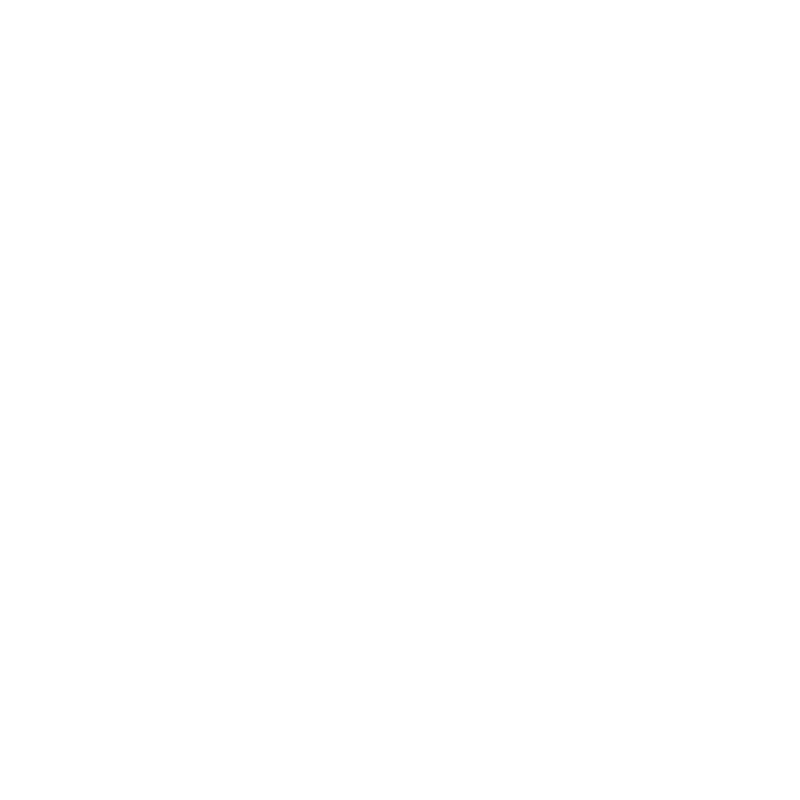
Неуверенное признание нахождения внутри программы, в которой привычно составлять смыслы с фонетически огрызающейся «р», становится для Вадима Балабана не только заголовком («Я вроде / в ворде»), но и принципом письма. Эта «р» - вибрация, шипение, заусенец языка, как будто дает словам успокоиться, оставляет их в состоянии постоянного сопротивления и игры. Книга целиком построена как пребывание внутри текста, в самой естественной ее среде, где слово может сломаться, строка оборваться, а фонетическая помеха внезапно превратиться в смысловой центр. Так, строфа
и горит в пустыне куст
и поборешься в потьме
и хрустение капуст
и искрение в зиме
строится на повторе «и», который имитирует заикание и в последней строке будто захлебывается в нем, но не разрушая текст, не выкорчевывая и не копируя естественную речь. Возникает особая артикуляция – речь с естественным заиканием, как когда пытаешься сказать важное преодолевая волнение и нахлынувшие чувства. Здесь анаграмма «вроде – ворде» работает одновременно как истина и как обман. Истина – потому что показывает перспективу, в которой текст рождается и раскрывает свой механизм, а обман – потому что на бэк-вокале этой конструкции звучит вполне мелодичная музыка: «из-за леса из-за гор / в титрах главные слова». Всем известный мотив и слова становятся опытом и мелодией, а титры новой историей, собранной из пережитого.
Иногда песня у Балабана вырывается из конструкций и становится их основой, когда иначе никак нельзя:
прогуляли три лит-ры
два ин-яза и физ-ру
любовались на коры
шершаватость на ветру
текст словно сам себя напевает, сокращения учебных предметов складываются в ритмическую звукопись, где «лит-ры», «ин-яза», «физ-ру» образуют нарочитую перекличку. Язык работает как мелодический инструмент, словно рад петь самого себя. Смысл выталкивается на второй план, уступая место ритму, интонации, музыкальности за тем, чтобы она оказалась заметнее страшного, больного. Это уже не речь, а песня, прорвавшаяся наружу, фонетическая энергия, которая и есть подлинный сюжет текста. Подобное можно встретить, например, в «да не помру помря», «плыви не угасай», «на дне глазного дня» и других.
Наряду с этим часто встречаются аллюзии, которые работают в анекдотическом, саркастическом ключе. Короткое «а без пальта / вы кто?» звучит как уличная шутка, но за ней легко считывается обсценный фон, намеренно вынесенный за скобки. Текст колеблется между детской дразнилкой и площадным оскорблением, и в этом колебании рождается поэтическая энергия. В похожем регистре написан:
а где же наши святые алкоголики?..
а вот они.
Здесь можно услышать отголосок Бориса Рыжего – «Кто эти идиоты? Это мои друзья». Балабан как будто продолжает ту же линию, но выводит ее в еще более саркастический, почти анекдотический ключ, разоблачая тем самым то, что было недоговорено до него.
Помимо затронутых чувств через мысль и звук, Балабан охотно берется и за зрение. В стихотворении «у яблони яблоко лишнее» знаки препинания перестают быть служебной грамматикой и начинают работать как элементы визуальной поэзии. Вопросительные знаки дробят текст на отдельные фразы-вдохи, двоеточие открывает перспективу, а многоточие отделяющее «яблоко и лицо» от остального, создает в середине страницы пустое пространство, зрительный провал. Здесь стихотворение читается не только, как звук, но и как картинка: слова превращаются в линии и пятна, задающие ритм взгляду («откус — ваш» = отче наш?). Символический ряд – яблоко, лицо, муравьиная река, волк – приобретает иконописную отчетливость именно благодаря графике.
Порой аллюзии ведут не к сарказму, а к совершенно другому регистру – мягкой, почти детской нежности. В стихотворении «БОУИ» развязка «мы смотрели лунное кино. / из автомобиля движущегося на нас» - тут возможна ассоциация с «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, где экранная реальность сталкивается с личным опытом. Но одновременно проступает и локальная нота: старая добрая нежность к матери - «заглядывая ко мне в иллюминатор», будто перекличка с песней группы «Земляне». Достаточно в первой строке сказать «мама прости» - и текст прорывается сквозь рок-н-ролл и постмодерн, выращивая из них не иронию, а интимность, желание сохранить локальное и близкое в хаосе и круговерти.
Возвращаясь к анаграмме, хоть и не совсем точно, но тут достаточно услышать фонетику, чтобы почувствовать, как связующему, выделенное заглавием «БОУИ» вскоре перекликается с другим текстом – «ОБОИ». Здесь анаграмма работает не только как формальный жест, но и как смена ракурса: от рок-н-ролла к обыденной стене и краске, акварели и гуаши. Но и в бытовом измерении язык ведёт себя уже как живопись: строки дробятся на слоги («где паль- / мовая пропажа, / фаталь- / ная в тираже») создавая эффект мазков, недоговоренности и разрывов. Если в «БОУИ» речь прорезала постмодерн, чтобы удержать локальное и интимное, то в этом случае текст сам становится картиной, поверх которой наклеены разрывы и потеки, которые только и остается зафиксировать фатальным «уже». Анаграмма – не просто игра, а способ показать не столько связь высокого и повседневного, не то, что одно вытекает из другого, а сколько их полную неотделимость друг от друга.
Периодически напевность Балабана берет новый виток, снова и снова слышится надрыв - песня возвращается к наболевшему, к милитаризированному. В стихотворении «что пользы тебе что гильзы…» (символично, что на сороковой странице) звук почти убаюкивает, но за мягким ритмом проступает военный словарь гильз и мирное курлыканье голубей – эти образы собраны в одном теле, где бытовое и военное равноправны. Фонетическая легкость делает войну обыденной, встроенной в повседневное дыхание, потому что если нет войны, то ее ожидание.
В другом фрагменте – «думал ночью про сон / где нет патиссон…» - тема войны возникает как обсессия: «будто с запада западня», «будто слон заслонил». Здесь аллюзия на шутку советского времени «Россия – родина слонов» и перекличка с Романом Тягуновым преломляются в сторону милитаризированной науки и идеологии, навязанной оппозиции «Западу». И снова повтор, заикание, нарочитая тавтология превращаются в форму выражения тревожного, надломленного сознания.
Особенно отчетливо это проявляется в стихотворении о Тагиле и «УрВагонЗаводе» («УралВагонЗавод»)
мелочится по Тагилу
и не улыбнётся
Урал здесь не только география, но и индустриальная судьба, территория, где завод производящий танки, как каждодневное напоминание о войне (происходящей или готовящейся) соседствует с игрой детей в мячик на братской могиле. Где самый «именитый» солдат – неизвестный солдат. Отсюда и Миядзаки, который писал аниме под впечатлениями и пережитом во время второй мировой. Сначала, кажется, что Туренко появляется в тексте как тень уральской поэтической традиции, но тут же прятки на вокзале из дружеского, приятельского, дружба и диалог, который помогает выживать вкупе с «пляжным литроболом». Но и не забывая, как в начале книги, что соседствует угроза наказания «дали срок / и достали кобуру»
Вообще, в книге особенное место занимают тексты, обращенные к поэтам – помимо выше перечисленных, есть посвящения Александру Петрушкину и А. З. В стихотворении посвященном Анастасии Зеленовой появляется «дубовая роща» и «таинственный самокат» - мир, также бытовой, как и прежде, но и окутанный памятью, фантазией и ностальгической пеленой, наполненный смехом, кошкой, корзиной зелени. А в посвящении Петрушкину «говори говори до и после / замирания…» - слышна та самая слабость, которую Балабан себе позволяет, уязвимость перед самыми близкими. Эти тексты говорят на языке адресатов, но произносятся голосом любящего человека («трогательные ладошки» или «я такой же пернатый внутри»).
Эти обращения и аллюзии показывают, что Балабан пишет из позиции движения памяти, от того близкое физическое соседство с этими текстами библейских сюжетов. Так, в стихотворении «курение убывает…» звучит Евангелие, в том числе в лице Иуды Искариота, словно чувство утраты равно чувствам вины и предательства. Попытка осмысления через призму экзистенциализма воспринимаются как «мыслеприёмы Сартра», но в итоге «слепые речи» оказываются в «чёрном ящике». Дальше только этому подтверждение «это поминки / это родовая память» или «руки умывал / когда они пилаты».
Книга «Я вроде / в ворде» - это опыт проживания языка в предельных его состояниях «я вовремя бы выскочил с экрана / во время криминальных новостей / из головы Вадима Балабана»: когда слово ломается, мутирует, чтобы затронуть ту часть чувств, необходимых для понимая того или иного текста, превращаясь то в песню, то в икону, то становится движением памяти. «В ворде» - это способ существования, а «вроде» - это уже только человеческое экзистенциальное сомнение, которое не касается того откуда и почему исходит жизнь, с надрывами, ошибками, заиканиями.
и горит в пустыне куст
и поборешься в потьме
и хрустение капуст
и искрение в зиме
строится на повторе «и», который имитирует заикание и в последней строке будто захлебывается в нем, но не разрушая текст, не выкорчевывая и не копируя естественную речь. Возникает особая артикуляция – речь с естественным заиканием, как когда пытаешься сказать важное преодолевая волнение и нахлынувшие чувства. Здесь анаграмма «вроде – ворде» работает одновременно как истина и как обман. Истина – потому что показывает перспективу, в которой текст рождается и раскрывает свой механизм, а обман – потому что на бэк-вокале этой конструкции звучит вполне мелодичная музыка: «из-за леса из-за гор / в титрах главные слова». Всем известный мотив и слова становятся опытом и мелодией, а титры новой историей, собранной из пережитого.
Иногда песня у Балабана вырывается из конструкций и становится их основой, когда иначе никак нельзя:
прогуляли три лит-ры
два ин-яза и физ-ру
любовались на коры
шершаватость на ветру
текст словно сам себя напевает, сокращения учебных предметов складываются в ритмическую звукопись, где «лит-ры», «ин-яза», «физ-ру» образуют нарочитую перекличку. Язык работает как мелодический инструмент, словно рад петь самого себя. Смысл выталкивается на второй план, уступая место ритму, интонации, музыкальности за тем, чтобы она оказалась заметнее страшного, больного. Это уже не речь, а песня, прорвавшаяся наружу, фонетическая энергия, которая и есть подлинный сюжет текста. Подобное можно встретить, например, в «да не помру помря», «плыви не угасай», «на дне глазного дня» и других.
Наряду с этим часто встречаются аллюзии, которые работают в анекдотическом, саркастическом ключе. Короткое «а без пальта / вы кто?» звучит как уличная шутка, но за ней легко считывается обсценный фон, намеренно вынесенный за скобки. Текст колеблется между детской дразнилкой и площадным оскорблением, и в этом колебании рождается поэтическая энергия. В похожем регистре написан:
а где же наши святые алкоголики?..
а вот они.
Здесь можно услышать отголосок Бориса Рыжего – «Кто эти идиоты? Это мои друзья». Балабан как будто продолжает ту же линию, но выводит ее в еще более саркастический, почти анекдотический ключ, разоблачая тем самым то, что было недоговорено до него.
Помимо затронутых чувств через мысль и звук, Балабан охотно берется и за зрение. В стихотворении «у яблони яблоко лишнее» знаки препинания перестают быть служебной грамматикой и начинают работать как элементы визуальной поэзии. Вопросительные знаки дробят текст на отдельные фразы-вдохи, двоеточие открывает перспективу, а многоточие отделяющее «яблоко и лицо» от остального, создает в середине страницы пустое пространство, зрительный провал. Здесь стихотворение читается не только, как звук, но и как картинка: слова превращаются в линии и пятна, задающие ритм взгляду («откус — ваш» = отче наш?). Символический ряд – яблоко, лицо, муравьиная река, волк – приобретает иконописную отчетливость именно благодаря графике.
Порой аллюзии ведут не к сарказму, а к совершенно другому регистру – мягкой, почти детской нежности. В стихотворении «БОУИ» развязка «мы смотрели лунное кино. / из автомобиля движущегося на нас» - тут возможна ассоциация с «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, где экранная реальность сталкивается с личным опытом. Но одновременно проступает и локальная нота: старая добрая нежность к матери - «заглядывая ко мне в иллюминатор», будто перекличка с песней группы «Земляне». Достаточно в первой строке сказать «мама прости» - и текст прорывается сквозь рок-н-ролл и постмодерн, выращивая из них не иронию, а интимность, желание сохранить локальное и близкое в хаосе и круговерти.
Возвращаясь к анаграмме, хоть и не совсем точно, но тут достаточно услышать фонетику, чтобы почувствовать, как связующему, выделенное заглавием «БОУИ» вскоре перекликается с другим текстом – «ОБОИ». Здесь анаграмма работает не только как формальный жест, но и как смена ракурса: от рок-н-ролла к обыденной стене и краске, акварели и гуаши. Но и в бытовом измерении язык ведёт себя уже как живопись: строки дробятся на слоги («где паль- / мовая пропажа, / фаталь- / ная в тираже») создавая эффект мазков, недоговоренности и разрывов. Если в «БОУИ» речь прорезала постмодерн, чтобы удержать локальное и интимное, то в этом случае текст сам становится картиной, поверх которой наклеены разрывы и потеки, которые только и остается зафиксировать фатальным «уже». Анаграмма – не просто игра, а способ показать не столько связь высокого и повседневного, не то, что одно вытекает из другого, а сколько их полную неотделимость друг от друга.
Периодически напевность Балабана берет новый виток, снова и снова слышится надрыв - песня возвращается к наболевшему, к милитаризированному. В стихотворении «что пользы тебе что гильзы…» (символично, что на сороковой странице) звук почти убаюкивает, но за мягким ритмом проступает военный словарь гильз и мирное курлыканье голубей – эти образы собраны в одном теле, где бытовое и военное равноправны. Фонетическая легкость делает войну обыденной, встроенной в повседневное дыхание, потому что если нет войны, то ее ожидание.
В другом фрагменте – «думал ночью про сон / где нет патиссон…» - тема войны возникает как обсессия: «будто с запада западня», «будто слон заслонил». Здесь аллюзия на шутку советского времени «Россия – родина слонов» и перекличка с Романом Тягуновым преломляются в сторону милитаризированной науки и идеологии, навязанной оппозиции «Западу». И снова повтор, заикание, нарочитая тавтология превращаются в форму выражения тревожного, надломленного сознания.
Особенно отчетливо это проявляется в стихотворении о Тагиле и «УрВагонЗаводе» («УралВагонЗавод»)
мелочится по Тагилу
и не улыбнётся
Урал здесь не только география, но и индустриальная судьба, территория, где завод производящий танки, как каждодневное напоминание о войне (происходящей или готовящейся) соседствует с игрой детей в мячик на братской могиле. Где самый «именитый» солдат – неизвестный солдат. Отсюда и Миядзаки, который писал аниме под впечатлениями и пережитом во время второй мировой. Сначала, кажется, что Туренко появляется в тексте как тень уральской поэтической традиции, но тут же прятки на вокзале из дружеского, приятельского, дружба и диалог, который помогает выживать вкупе с «пляжным литроболом». Но и не забывая, как в начале книги, что соседствует угроза наказания «дали срок / и достали кобуру»
Вообще, в книге особенное место занимают тексты, обращенные к поэтам – помимо выше перечисленных, есть посвящения Александру Петрушкину и А. З. В стихотворении посвященном Анастасии Зеленовой появляется «дубовая роща» и «таинственный самокат» - мир, также бытовой, как и прежде, но и окутанный памятью, фантазией и ностальгической пеленой, наполненный смехом, кошкой, корзиной зелени. А в посвящении Петрушкину «говори говори до и после / замирания…» - слышна та самая слабость, которую Балабан себе позволяет, уязвимость перед самыми близкими. Эти тексты говорят на языке адресатов, но произносятся голосом любящего человека («трогательные ладошки» или «я такой же пернатый внутри»).
Эти обращения и аллюзии показывают, что Балабан пишет из позиции движения памяти, от того близкое физическое соседство с этими текстами библейских сюжетов. Так, в стихотворении «курение убывает…» звучит Евангелие, в том числе в лице Иуды Искариота, словно чувство утраты равно чувствам вины и предательства. Попытка осмысления через призму экзистенциализма воспринимаются как «мыслеприёмы Сартра», но в итоге «слепые речи» оказываются в «чёрном ящике». Дальше только этому подтверждение «это поминки / это родовая память» или «руки умывал / когда они пилаты».
Книга «Я вроде / в ворде» - это опыт проживания языка в предельных его состояниях «я вовремя бы выскочил с экрана / во время криминальных новостей / из головы Вадима Балабана»: когда слово ломается, мутирует, чтобы затронуть ту часть чувств, необходимых для понимая того или иного текста, превращаясь то в песню, то в икону, то становится движением памяти. «В ворде» - это способ существования, а «вроде» - это уже только человеческое экзистенциальное сомнение, которое не касается того откуда и почему исходит жизнь, с надрывами, ошибками, заиканиями.
Август, 2025