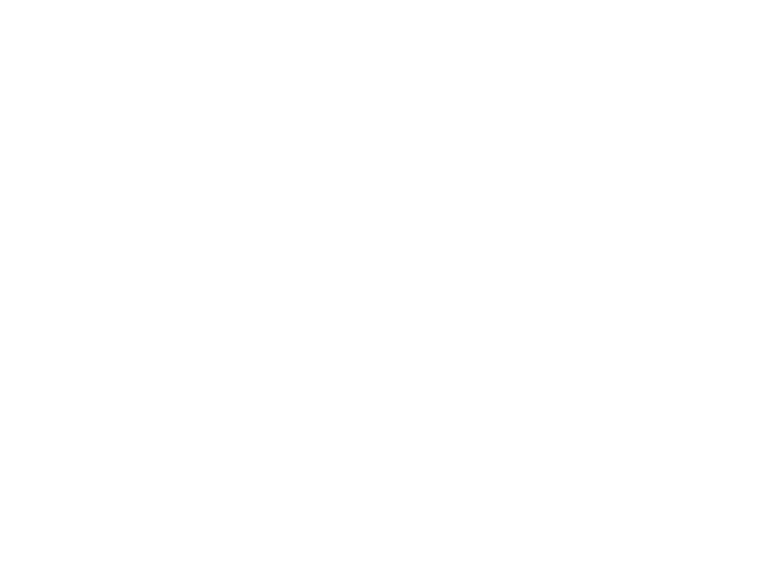
Алексей Порвин
Пробоина в многослойности: какие сны снятся человечеству?
Введение, или кто сильнее любит Вету Акатову
«Книга «Сны человечества» состоит из двух повестей, каждая из которых представляет собой философско-литературный монтаж, насыщенный аллюзиями на русскую и мировую культуру…» – так можно было бы начать этот текст о прозе Петра Г. К., известного петербургского поэта, эссеиста и литературного критика, но начнём мы иначе.
Эта книга – не только круговорот смыслов, размывающий асфальтные дороги массовой культуры и облачные тропы культуры элитарной, полупрозрачная тоска по аутентичному, которое даже нельзя назвать, чтобы не утратить его окончательно, но и глубокое подозрение, что за этой текстуальной мозаикой стоит нечто большее.
Любовь.
Не та, что в строчках поп-песен (хотя и они здесь, ведь Алсу – не декорация, а симптом). И не та, что в философских трактатах. А та, которая постоянно не совпадает. Говоришь одно – думаешь другое – слышишь третье – а понимается всё четвёртым способом. Или, может, всё это и есть одно, просто в разных, наслаивающихся друг на друга, модификациях искажений, эха и отчаяния. Любовь как сбой в коммуникативной системе. Как шифр, который рассыпается на пороге расшифровки. Как скафандр – не для защиты, а потому что воздух между двумя «я» не всегда пригоден для дыхания.
Вета Акатова здесь – не столько заёмный персонаж, сколько место внутри языка, куда направлено чувство и где оно не может найти основу для существования. Она – адрес, которого нет на карте, но все туда пишут. И если кто-то говорит с Ветой, то говорит – мимо. И если кто-то слышит её, то слышит – в себе. Так чья же любовь к Вете Акатовой самая сильная? Кто вправе называться хранителем её дыхания?
– Тот, кто её придумал?
– Тот, кто пытался говорить с ней и проваливался в кротовины синтаксиса?
– Тот, кто вообще не знал, что любит, но почувствовал пустоту, когда она ушла с последней страницей?
Повести Петра Г. К. не рассказывают о любви – они сделаны из любви: к несбывшемуся, к недосказанному, к неразделённому, к книгам и к тишине между строк, к тому самому, смысла не имеющему, но существующему – как дыхание во сне, что можно назвать только шёпотом.
Читаешь эту книгу – как бы любишь. Не Вету, может быть. А ту невозможность быть с ней – внятно и непосредственно.
И именно в этом – возможно – правда.
I. Язык как множественный подвал: слышать, но не слышать
Человек говорит одно, думает другое, слышит третье, а собеседник понимает четвёртое, но, возможно, всё это одно и то же, только через стекло «скафандра». Это, возможно, могли бы сказать и Хайдеггер, и Витгенштейн, и Мерло-Понти. В книге Петра Г. К. нет повествовательной магистрали – зато есть бесконечные тоннели, которые соединяются в неочевидных местах, петляют, замыкаются, и когда ты думаешь, что выход близко, то это – лишь нарисованная дверь, граффити на стене. Всё здесь говорит через всё: персонажи цитируют книги, будто интертексты собственных снов, отсылаются друг к другу сквозь шорох полиграфической пыли и случайный шум из наушников.
О чём всё это? Возможно, о том, что слышимое тобой в разговоре – это исторически обусловленные дискурсивные практики, в которых ты – просто точка пересечения. То есть ты, конечно, слышишь «собеседника», но слышишь его как голоса институций или паттерны говорения эпохи.
Язык – это подвал. С лестницами, ведущими в другие подвалы. С мешками архивного эха. С пауками цитат, запутавшихся в себе. А скафандры – это мы. Мы – это и есть скафандры. И если вдруг кто-то всё же что-то понял — возможно, это был сбой в системе. Или вспышка любви. Или её симуляция.
Впрочем, и это не точно.
II. Культурная помойка как священная текстура
Добро пожаловать в культурную энтропию, где каждый элемент – от квазиметафизических всплесков Платонова до латентной меланхолии Алсу – оказывается уравнен в правах – в том числе в правах доступа. Книга живёт в археологическом слое, где Фромм соседствует с Сашей Соколовым, а Егунов – с поп-клипом. Все эти имена обитают на одном уровне: здесь нет вертикали, только горизонтальный поток упоминаний, как если бы Борхес и YouTube-плейлист «романтический вечер» творили совместную одиссею в телеграм-чате.
Здесь нет вертикали – только рециркуляция знаков. Поток отсылок к источнику, поток отсылок к отсылкам к источнику… Диалоги здесь не из диалогики, а из диалектического облома: это – отложенное письмо, апостериорная лингвистическая голограмма, где слово звучит как эхо удалённого с сервера архива.
Зачастую фразы в этой книге – это реконструкции утраченной интуиции, будто кто-то пытается составить оригинал мёртвого языка по звуковым артефактам. Но даже это «восстановление» – мастерский перформанс утраты: мысль уже испарилась, образ уже не тот, опыт сдвинулся в пост-память. Слова выходят на повествовательную сцену с микрофонной задержкой: говорят что-то важное, но звук приходит позже, а иногда – приходит и вовсе совсем другим.
Здесь нет истины – только текстура: культурный мусор, сросшийся с мессиями, мессиджами, миметическими сущностями и метафорами. Так формируется священное тело текста – хрупкое, пахнущее пластиковой тоской по аутентичному, как кассета VHS с перезаписанной свадьбой и концовкой фильма Солярис, усыпаемыми равномерным снегом помех.
III. Кто здесь говорит – и говорит ли он?
Повествование не столько развивается, сколько флуктуирует, как сбой в электромагнитном шуме или побочный эффект от утечки сигнала из архива Литературы как таковой. Оно мерцает, как старый CRT-экран в полночь, когда все уже ушли, а субъект повествования – если он всё ещё где-то существует в постструктуралистской пустоте – пьёт растворимый кофе, глядя в чёрный прямоугольник отключённого монитора, пытаясь вспомнить, включал ли он вообще запись.
Иногда голос в этой книге – это дрожащий, неуверенный, почти феноменологический выдох, прячущийся под шумом других голосов, отложенных, вырезанных, переписанных. Это не субъект, это – аккаунт на лингвистической бирже теней. Не персонаж – а текстуальный эффект, временно сконструированный читательской интуицией.
Диалоги, лежащие в основе повестей Петра Г. К., растворены в интертекстуальной суспензии: привет, Бланшо, привет, Фуко – призраки лингвистического кладбища, где надгробия сделаны из сносок и каталожных карточек, тоскующих по картотеке Лумана.
Собственно, говорит ли здесь кто-нибудь – или всё это просто аура отсутствия, мерцающая в пространстве где-то между Derrida.exe и logocentrism.bak?
IV. МакSим как богиня пустоты
В этой книге, где Платонов встречается с рабыней И., поп-культура не просто всплывает как маркер постмодерна – она встроена в ткань повествования как структурный mythos, как лингвистическая пряжа для мира, где «высокое» и «низкое» уже давно не антагонисты, а изоморфные слои культурного палимпсеста.
Внутри этого повествовательного пространства, где персонажи рассуждают о смыслопорождении, определении данности и т. д., с определенной долей обязательности возникают поп-дивы, эти иконы симулятивной ауры, surface without depth, как сказал бы Джеймисон. Они – объекты желания, знаки невозможной близости.
МакSим здесь (ну или Алсу) – не просто фигура из радиофона 2000-х, не риторический фантик, а богиня симулякра, как Венера у Лукреция, только с автотюном, – она не рождает мир, но запускает петлю его отсутствия. «Знаешь ли ты» – звучит как парадокс эпистемологии, отправной пункт для размышления о границах узнавания, возможности истины и распаде referentiality.
Возможно, поп-певицы как пустотные формы сакрального, чьи образы намекают на клиповый нарратив, но не привносят его, становятся бессознательной грамматикой персонажей. Как Рабыня И., которая никогда не выберется из фазового пространства между мелодрамой и экономикой плантации, Алсу (ну или МакSим) навсегда застряла в трансляции – как аллегория потери, повторяющаяся с ротацией на каждом новом уровне смысла.
И да, конечно: поп-культура в этой книге нужна не для контраста, а для создания базовой топологии.
V. А что, если апокалипсис уже давно отснят, но плёнка бесконечно гоняется в петле воспроизведения?
Что если мы продолжаем жить в перемонтируемом, бесконечно редактируемом, «застрявшем» состоянии, где ничего нового не происходит, только рециркуляция, рерайт, ремикс?
Во второй повести, «Метры о», текст словно входит в фазу симулятивной кристаллизации: метр – это уже не мера длины, не элемент поэтической формы, а мерцание пустотного поля, диспозицияонтологического дефицита. Слова не произносятся – они отмеряются, как секунды в камере пыток для звуков, каждая фраза здесь – артефакт лингвистической термодинамики, отложенный смысл в состоянии полураспада.
Сюжет здесь деконструирован в пользу хореографии отсутствий. Будущее редуцировано до гипертрофированной ретроспективы, и мы уже не репетируем жизнь – мы репетируем отменённый сценарий. Всё происходит, как у Бланшо и Беккета, но только в другом ритме, на другой скорости и под трек «Знаешь ли ты».
Эпилог. Слишком много зеркал: текст после того, как текст закончился
Проза Петра Г. К. – это проекция когнитивной машины, в которой формируется топология смысловой интерференции. Петр Г. К. – одновременно хроникёр, медиум, археолог и резидент на границе между языком и его невозможностью. Эта книга – автоматон-библиотека, движимая силами лингвистической гравитации и культурной голографии. Более того, эта книга есть особый способ мыслить культуру. Читать Петра Г. К. – как смотреть на облака, составленные из ссылок, аллюзий, фантомных реплик и лингвистических теней, у которых больше не осталось тел. На облака, отражающиеся в асфальте и вбирающие его блеск.
Зачастую персонажи Петра Г. К. – перформативные кластеры памяти, фантомные носители невозможного переживания. Его герои не действуют, а резонируют, не говорят, а цитируют, не ищут, а уже помнят – в том числе то, что ещё не произошло. У Петра Г. К., безусловно, есть «язык» – в том же смысле, что и у классиков, но его язык – сетка транслируемых кодов, сквозь которую проступает эпистемологический шум, флуктуация невыразимого, обозначая свое присутствие вспышками смысла.
Пётр Г. К. – архитектор постнарративного пространства, в котором постструктурализмвстречается с остеологией поп-культуры, где каждое имя – это сверхпроводник пустоты, носитель сакрального фрагмента, торчащего из распада.
Эта книга – филологический монтаж сознания, склеенный на плёнке, оставшейся после того, как закончилась история литературы. Это, однако, не собрание аллюзий – это аллюзивная метафизика.
И если вдруг – на фоне полифонии цитат, гипертекста, отсылок к философии и психоанализу, флуктуаций МакSим, а также лексем, несущихся в синтаксических капсулах – кто-то начнёт бормотать про «слишком», «чересчур», «эксперимент ради эксперимента», – значит, что-то начало работать. Потому что Пётр Г. К. в этой книге – не просто автор, а крипто-фигура, сбойный носитель архэ-желания текста, картограф семиотического перегруза, возникший на фоне усталости от постмодернизма. Он приходит в эпоху когнитивной пены, чтобы не избавить нас от неё, а позволить нам услышать её, как белый шум – в высшей степени плодотворной – пустоты между словами.
Его письмо – семиозис, пережигание кодов, деконструкция не по Деррида, а по принципу скрытого сбоя в интерфейсе: ты читаешь – и где-то в латентном слое семантика просит пощады. Тексты Петра Г. К. – это то, что Соссюр бы заблокировал, Бланшо подписал бы псевдонимом, а Делёз бы пустил как саундтрек к исчезновению желания. Потому что тут не просто всего «много» – тут построена модель порождения текста, где «много» – это и есть форма любви, любовного письма, которое наконец-то не ищет адресата.
июнь 2025

