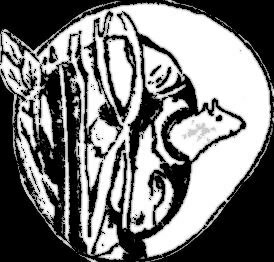Виталий Аширов
родился в 1982 году в Перми.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
Публиковался в журналах «Волга», «Нева», Homo Legens, «Урал», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Лиtеrrатура», «Полутона», «Топос» и др.
Автор книги «Скорбящий киборг. Диаманда Галас за пределами ультрамодернизма» («Кабинетный ученый», 2019).
Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Пачепской.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
Публиковался в журналах «Волга», «Нева», Homo Legens, «Урал», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Лиtеrrатура», «Полутона», «Топос» и др.
Автор книги «Скорбящий киборг. Диаманда Галас за пределами ультрамодернизма» («Кабинетный ученый», 2019).
Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Пачепской.
"Вести с чернильного фронта"
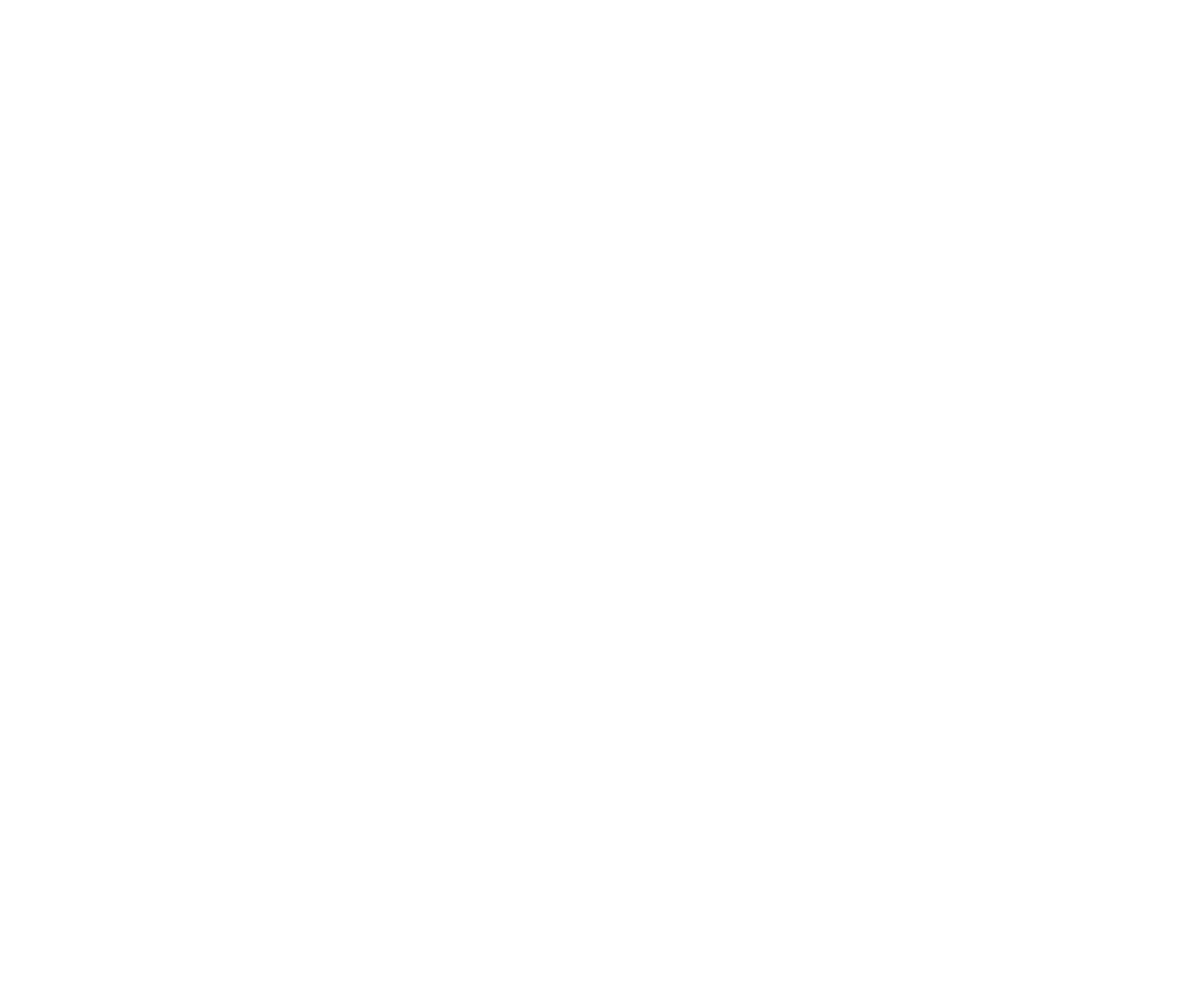
На подоконнике лежала свернутая вчетверо (верно, выпала у кого-то из кармана) “Литературная газета” с вестями о жизни столичных литераторов, и он не без удовольствия развернул ее, ибо все же имел определенное касательство к писательским кругам, а уж о том, как эти самые круги вращаются в Москве, не узнать было преступление. На первых полосах шли политические новости, и он, поморщившись, перелистнул – а дальше – словно политика была лишь обходным маневром, которым двигались правдивые вести с чернильного фронта – друг за другом следовали две поразительные статьи, и обе посвящены одному предмету – фактам из жизни популярного литератора, но если первая статья про Романа Сенчина, то вторая про Владимира Сорокина.
На ходу взявшись читать, режиссер подумал, что либо газета печаталась к первому апреля, либо редактор, допустивший подобное, был под мухой. Оказывается, у Сенчина существует (и довольно давно) (и довольно успешно) совершенный двойник, копирующий не только его походку, манеру одеваться, физию, но и стилистику прозы. Более того, двойник этот не менее известен, чем Сенчин (по количеству полученных премий и напечатанных книжек они приблизительно на одном месте), а зовут его также – Роман Сенчин.
Изначально звали его Игорь Гаврилов, и был он студент, помешавшийся на сенчиновской прозе. Это про меня написано, говорил он друзьям, и не упускал ни одной книжки, ни одной статьи именитого писаки. Собрал огромный архив, где находились и рукописи (выловленные на аукционах), и фотографии Сенчина, и какие-то его автобусные билетики. Одно время ходил за ним по пятам, подбирая каждый выпущенный Сенчиным из рук клочок бумаги (бывал неоднократно бит и самым лауреатом, который, как мы знаем, вспыльчив и драчлив) записывая на диктофон обрывки его голоса, и даже воруя какие-то мелочи типа оставленного в корзине батона.
Насытиться Сенчиным он не мог, пока полностью не преобразился в него (причем следил за модой гения, так что если оный красился хной, то и Гаврилов красился хной, а если оный отпускал бороду до колен, то и Гаврилов отпускал).
Писать в духе Сенчина у него выходило легко и непринужденно, и если сперва журналы его печатали только потому что думали – перед ними настоящий Сенчин, а отказать великому некрасиво, то постепенно слог его набрал обороты, и он начал отдельно от Сенчина производить романы, которые читал оригинал и кусал губы от зависти – это ж мой замысел, и как он успел вперед меня. Премии они получали подчас одновременно. Букер достается… загадочно понижал голос распорядитель, - романам сенчиным. И оба, сердито толкаясь друг с другом в проходе, выходили на сцену и, сграбастав обнаженные статуэтки муз, тут же озвучивали практически одинаковые торжественные речи.
Со временем отношение первого Сенчина ко второму поменялось – от резко нетерпимого до приятельского. Теперь их можно нередко увидеть вместе, то в ликерной, то на балконе виллы первого Сенчина (уже сложно сказать, кто оригинал). Загородные дома они построили рядом, по утрам бегают вместе трусцой, делясь творческими планами, причем любую начатую одним мысль второй запросто может закончить. И так, переглядываясь и хлопая друг друга по плечам, они мчатся по лесным дорожкам.
Если эту историю режиссер отнес к роду трансцендентальных (что бы ни означало сие словцо) (и в принципе даже поверил – ведь соглядатаем Сенчина он не был и глубоко в морок лит. богемы не погружался, но взял за интерес – проверить), то вторую, значительно более простую, отнес скорее к роду трансцендентных, может быть потому, что она была с отчетливым криминальным привкусом.
В той же пресловутой Москве недавно изловили бандитскую группировку, созданную с единственной целью – вернуть талант Владимиру Сорокину. Всем известно (и тут режиссер глубокомысленно покивал), что в середине десятых талант оставил enfant terrible русской литературы, когда устав от собственных же гениальных деконструкций, он написал нечто фольклорное, скучную и претенциозную сказочку “День опричника”, которую неожиданно похвалил какой-то критик, за ним второй и третий, а четвертый назвал ее “пророческим полотном о судьбах будущего”, и все это впитавший Сорокин преисполнился чувством собственного величия, и давай на-гора, к вящей радости глупцов, выдавать подобные сказочки.
В интервью оправдывался тем, что прежде якобы работал с чужим текстом, теперь же внезапно в нем зазвучал собственный голос – увы, то звучал не голос, а “хрип зарезанной музы” (из манифеста запрещенной на территории РФ организации “ВСД” – Вернем Сорокину Дар).
Где же это видано, вещал глава группировки, чтобы Кафка, отринув лабиринты бессознательного, вдруг обратился к сочинению жеманной дамской прозы, где это водится, чтобы Набоков сказал “прощай” своему чудесному стилю, и – “подвинься” своему же отношению к пошлости и начал в массовых масштабах производить фантастические боевики. Нигде! Это сюр.
А вот Сорокин – он был для нас и кафкой и набоковым и черт знает кем в одном лице – а прежде всего был, конечно, Сорокиным – именно так и сделал.
И потерпел фиаско на всех фронтах.
Те, кто в него верили – заорали: “а где талант?”, те же, кто впервые о нем слышал, не увидели в текстах Сорокина ничего принципиально нового, по сравнению с тем же Юрием Никитиным или Джоан Роулинг, кроме того новоявленный автор был примитивнее мэтров жанра.
Проигрыш с любой стороны. Не радовали Сорокина и миллионные гонорары и приглашения в качестве почетного гостя на телепередачи. Он пробовал было сочинить нечто в старом духе, но книжица вышла вялая и вторичная.
Метр замкнулся в себе. Рухнул в болото депрессии. Перестал писать, выезжать на рауты с друзьями и даже следить за собой, ходил круглый год в одних и тех же обносках, и нередко можно было увидеть его снулую физиономию на книжных развалах. В поисках вдохновения он перебирал давно забытые романы эпохи СССР, и такая растерянность читалась на лице бывшего гения, что нельзя было не расплакаться при виде ее, заканчивал пламенную речь вождь ВСД.
Что же они предлагали? Недавно китайцы синтезировали вещество alpha gpc choline, которое активизирует мозговую активность, особенно в речевых центрах. Оно не превратит дурака в настоящего писателя, но настоящему писателю, пусть слегка закосневшему, вернет ощущение легкости слога, плавности оборотов, а главное, возвратит давно забытую эйфорию письма (именно то, что нужно Сорокину).
Сам Сорокин, полагали они, консерватор в медицинском плане, и ни за что не решится применить вещество.
У них родились две схемы преступного замысла. Согласно первой, alpha gpc choline следовало подложить писателю в пищу, если он остановится в какой-нибудь забегаловке, или добавить в продукты, доставляемые курьерской службой.
Придорожные кафе Сорокин терпеть не мог, питался грибами да ягодами, которые собирал в кузовочек. А курьера спустил с лестницы.
Вторая схема, ставшая для них роковой, заключалась в том, чтобы поймать Сорокина, насильно ему ввести препарат и если сработает и обалдевший от счастья писака тут же примется строчить нетленку, применить данный метод на ком-нибудь еще – Валерий Вотрин, например, давно читателей не радовал…
Заметивший подозрительную активность возле себя писатель заявил в полицию и заговорщиков быстро вычислили. Сроки им грозят немалые.
Сорокин же высказался презрительно: я купил alpha gpc choline в тот же день, как это чудо-средство выкатили на рынок, и оно оказалось обыкновенным плацебо.
В сию небывальщину режиссер не поверил ни на йоту, потому что Сорокин, если ему не изменяла память, был из Питера и никаким боком не относился к московской литературной тусовке
.
Автор обеих этих заметок прятался за инициалами СП. Союз писателей, моментально смекнул режиссер, и хотя начинал раздражаться и конспирацией и глупым содержанием заметок, перелистал газету в поисках других буквоизвержений странного СП, но дальше как будто всё устаканилось, один за другим следовали ивановы, ржешевские, жуки, и прочие хорошо знакомые всем, кто интересуется литературой, авторы, чьи тексты – даже если борзописец впервые попадается на глаза – можно вообразить по одним исключительно фамилиям.
Так, Иванов поднимал темы серенькие, стандартные, но с непременным гражданским душком, типа проблем ремонта здания, где расположилась редакция “Звезды”.
Ржешевская с истерическим пафосом описывала какое-нибудь новое литературное направление, суть которого сводилась к тому, чтобы взять старое, хорошо всем известное, и ключевые слова заменить на иностранные синонимы. Так, реализм через ее махинации запросто превращался в веритизм (от лат. Veritas - реальность), центральными темами коего являлись уже не “достоверное изображение действительности”, но “алетеическое иконирование веритатиса и феноменология койноникоса”. А на упреки в сложности отвечала (верно, выпуская воображаемый дым из мундштука): таковы запросы современности.
Жук (в студенческие годы покорно носил прозвище Ржук) заводил привычную свою волынку о важности продвижения традиционных ценностей с помощью печатного слова (причем в формулировку вкралась досадная или, наоборот, нарочитая опечатка: “радиационные ценности”, и режиссер на мгновение задумался, пытаясь представить, как бы это могло выглядеть: со всех экранов, с каждого фонарного столба, где установлен рупор, дикторы уверяют, что россияне испокон веков приверженцы урана и плутония, а над бериллием и натрием испокон веков же насмехаются), при этом с каждым абзацем входил во все больший раж (как будто вбивал эти самые ценности во все большее число юных голов), и закончил бессмысленным, но пламенным апогеем – безудержным цитированием Есенина, к месту и не к месту. Статья была бесцеремонно прервана на каком-то блатном мотивчике из позднего творчества поэта (начиналось про гулящих девок, но добрый редактор не позволил цитате состояться).
Соположение столь разных подходов к выражению в общем-то близких идей выглядело прекомично, и режиссер озадачился: что будет в юмористическом отделе, коли всевозможный арсенал смеха, как ему показалось, уже исчерпан. Там-то он и нашел чаемого СП.
Название отдела, “юmorteстический”, отдавало неумным каламбуром, да и текст, там выложенный, доверия не внушал, ибо не тянул не то что на полноценный рассказ, но даже на короткую зарисовку, максимум мог претендовать на объем анекдота, только вот содержание было отнюдь не веселое.
Текст назывался “Кнопка”. По утверждению СП, когда человек появляется на свет, рядом с ним – на стене, на потолке, или даже под кроватью – варианты разнятся – природным образом зарождается кнопка уничтожения Земли. Похожа она на обычный выключатель, но обладает невероятно мощным потенциалом убийственного действия. Если ее щелкнуть, планета в пять секунд обратится в горячий дым.
И конечно, признается автор, каждый из нас нажимал эту кнопку хотя бы раз – младенцы по незнанию, подростки из озорства, студенты в отчаянии, скуфы из подленького желания навредить – а ведь сколько в мире психопатов и шизофреников, и всем им тоже положена кнопка! Так отчего же, задается автор правильным вопросом, до сих пор Земля и ее обитатели не обратились в пар, и дает парадоксальный, но в принципе логичный ответ: в любую секунду и даже в микросекунду нажимаются тысячи кнопок, непрерывные одновременные нажатия аннулируют зловещий эффект, что-то в микросхемах природы замыкает, и взрыва не происходит. Иными словами, это кнопка не уничтожения, но напротив, случайно образовавшийся механизм самосохранения Земли.
Автор подытоживает природную мудрость в кратком афоризме: тот, кто намерен навсегда сохранить мир, должен создать как можно больше средств его уничтожения.
Режиссер вернул газету на место и, посмеиваясь, пошел по своим делам.
На ходу взявшись читать, режиссер подумал, что либо газета печаталась к первому апреля, либо редактор, допустивший подобное, был под мухой. Оказывается, у Сенчина существует (и довольно давно) (и довольно успешно) совершенный двойник, копирующий не только его походку, манеру одеваться, физию, но и стилистику прозы. Более того, двойник этот не менее известен, чем Сенчин (по количеству полученных премий и напечатанных книжек они приблизительно на одном месте), а зовут его также – Роман Сенчин.
Изначально звали его Игорь Гаврилов, и был он студент, помешавшийся на сенчиновской прозе. Это про меня написано, говорил он друзьям, и не упускал ни одной книжки, ни одной статьи именитого писаки. Собрал огромный архив, где находились и рукописи (выловленные на аукционах), и фотографии Сенчина, и какие-то его автобусные билетики. Одно время ходил за ним по пятам, подбирая каждый выпущенный Сенчиным из рук клочок бумаги (бывал неоднократно бит и самым лауреатом, который, как мы знаем, вспыльчив и драчлив) записывая на диктофон обрывки его голоса, и даже воруя какие-то мелочи типа оставленного в корзине батона.
Насытиться Сенчиным он не мог, пока полностью не преобразился в него (причем следил за модой гения, так что если оный красился хной, то и Гаврилов красился хной, а если оный отпускал бороду до колен, то и Гаврилов отпускал).
Писать в духе Сенчина у него выходило легко и непринужденно, и если сперва журналы его печатали только потому что думали – перед ними настоящий Сенчин, а отказать великому некрасиво, то постепенно слог его набрал обороты, и он начал отдельно от Сенчина производить романы, которые читал оригинал и кусал губы от зависти – это ж мой замысел, и как он успел вперед меня. Премии они получали подчас одновременно. Букер достается… загадочно понижал голос распорядитель, - романам сенчиным. И оба, сердито толкаясь друг с другом в проходе, выходили на сцену и, сграбастав обнаженные статуэтки муз, тут же озвучивали практически одинаковые торжественные речи.
Со временем отношение первого Сенчина ко второму поменялось – от резко нетерпимого до приятельского. Теперь их можно нередко увидеть вместе, то в ликерной, то на балконе виллы первого Сенчина (уже сложно сказать, кто оригинал). Загородные дома они построили рядом, по утрам бегают вместе трусцой, делясь творческими планами, причем любую начатую одним мысль второй запросто может закончить. И так, переглядываясь и хлопая друг друга по плечам, они мчатся по лесным дорожкам.
Если эту историю режиссер отнес к роду трансцендентальных (что бы ни означало сие словцо) (и в принципе даже поверил – ведь соглядатаем Сенчина он не был и глубоко в морок лит. богемы не погружался, но взял за интерес – проверить), то вторую, значительно более простую, отнес скорее к роду трансцендентных, может быть потому, что она была с отчетливым криминальным привкусом.
В той же пресловутой Москве недавно изловили бандитскую группировку, созданную с единственной целью – вернуть талант Владимиру Сорокину. Всем известно (и тут режиссер глубокомысленно покивал), что в середине десятых талант оставил enfant terrible русской литературы, когда устав от собственных же гениальных деконструкций, он написал нечто фольклорное, скучную и претенциозную сказочку “День опричника”, которую неожиданно похвалил какой-то критик, за ним второй и третий, а четвертый назвал ее “пророческим полотном о судьбах будущего”, и все это впитавший Сорокин преисполнился чувством собственного величия, и давай на-гора, к вящей радости глупцов, выдавать подобные сказочки.
В интервью оправдывался тем, что прежде якобы работал с чужим текстом, теперь же внезапно в нем зазвучал собственный голос – увы, то звучал не голос, а “хрип зарезанной музы” (из манифеста запрещенной на территории РФ организации “ВСД” – Вернем Сорокину Дар).
Где же это видано, вещал глава группировки, чтобы Кафка, отринув лабиринты бессознательного, вдруг обратился к сочинению жеманной дамской прозы, где это водится, чтобы Набоков сказал “прощай” своему чудесному стилю, и – “подвинься” своему же отношению к пошлости и начал в массовых масштабах производить фантастические боевики. Нигде! Это сюр.
А вот Сорокин – он был для нас и кафкой и набоковым и черт знает кем в одном лице – а прежде всего был, конечно, Сорокиным – именно так и сделал.
И потерпел фиаско на всех фронтах.
Те, кто в него верили – заорали: “а где талант?”, те же, кто впервые о нем слышал, не увидели в текстах Сорокина ничего принципиально нового, по сравнению с тем же Юрием Никитиным или Джоан Роулинг, кроме того новоявленный автор был примитивнее мэтров жанра.
Проигрыш с любой стороны. Не радовали Сорокина и миллионные гонорары и приглашения в качестве почетного гостя на телепередачи. Он пробовал было сочинить нечто в старом духе, но книжица вышла вялая и вторичная.
Метр замкнулся в себе. Рухнул в болото депрессии. Перестал писать, выезжать на рауты с друзьями и даже следить за собой, ходил круглый год в одних и тех же обносках, и нередко можно было увидеть его снулую физиономию на книжных развалах. В поисках вдохновения он перебирал давно забытые романы эпохи СССР, и такая растерянность читалась на лице бывшего гения, что нельзя было не расплакаться при виде ее, заканчивал пламенную речь вождь ВСД.
Что же они предлагали? Недавно китайцы синтезировали вещество alpha gpc choline, которое активизирует мозговую активность, особенно в речевых центрах. Оно не превратит дурака в настоящего писателя, но настоящему писателю, пусть слегка закосневшему, вернет ощущение легкости слога, плавности оборотов, а главное, возвратит давно забытую эйфорию письма (именно то, что нужно Сорокину).
Сам Сорокин, полагали они, консерватор в медицинском плане, и ни за что не решится применить вещество.
У них родились две схемы преступного замысла. Согласно первой, alpha gpc choline следовало подложить писателю в пищу, если он остановится в какой-нибудь забегаловке, или добавить в продукты, доставляемые курьерской службой.
Придорожные кафе Сорокин терпеть не мог, питался грибами да ягодами, которые собирал в кузовочек. А курьера спустил с лестницы.
Вторая схема, ставшая для них роковой, заключалась в том, чтобы поймать Сорокина, насильно ему ввести препарат и если сработает и обалдевший от счастья писака тут же примется строчить нетленку, применить данный метод на ком-нибудь еще – Валерий Вотрин, например, давно читателей не радовал…
Заметивший подозрительную активность возле себя писатель заявил в полицию и заговорщиков быстро вычислили. Сроки им грозят немалые.
Сорокин же высказался презрительно: я купил alpha gpc choline в тот же день, как это чудо-средство выкатили на рынок, и оно оказалось обыкновенным плацебо.
В сию небывальщину режиссер не поверил ни на йоту, потому что Сорокин, если ему не изменяла память, был из Питера и никаким боком не относился к московской литературной тусовке
.
Автор обеих этих заметок прятался за инициалами СП. Союз писателей, моментально смекнул режиссер, и хотя начинал раздражаться и конспирацией и глупым содержанием заметок, перелистал газету в поисках других буквоизвержений странного СП, но дальше как будто всё устаканилось, один за другим следовали ивановы, ржешевские, жуки, и прочие хорошо знакомые всем, кто интересуется литературой, авторы, чьи тексты – даже если борзописец впервые попадается на глаза – можно вообразить по одним исключительно фамилиям.
Так, Иванов поднимал темы серенькие, стандартные, но с непременным гражданским душком, типа проблем ремонта здания, где расположилась редакция “Звезды”.
Ржешевская с истерическим пафосом описывала какое-нибудь новое литературное направление, суть которого сводилась к тому, чтобы взять старое, хорошо всем известное, и ключевые слова заменить на иностранные синонимы. Так, реализм через ее махинации запросто превращался в веритизм (от лат. Veritas - реальность), центральными темами коего являлись уже не “достоверное изображение действительности”, но “алетеическое иконирование веритатиса и феноменология койноникоса”. А на упреки в сложности отвечала (верно, выпуская воображаемый дым из мундштука): таковы запросы современности.
Жук (в студенческие годы покорно носил прозвище Ржук) заводил привычную свою волынку о важности продвижения традиционных ценностей с помощью печатного слова (причем в формулировку вкралась досадная или, наоборот, нарочитая опечатка: “радиационные ценности”, и режиссер на мгновение задумался, пытаясь представить, как бы это могло выглядеть: со всех экранов, с каждого фонарного столба, где установлен рупор, дикторы уверяют, что россияне испокон веков приверженцы урана и плутония, а над бериллием и натрием испокон веков же насмехаются), при этом с каждым абзацем входил во все больший раж (как будто вбивал эти самые ценности во все большее число юных голов), и закончил бессмысленным, но пламенным апогеем – безудержным цитированием Есенина, к месту и не к месту. Статья была бесцеремонно прервана на каком-то блатном мотивчике из позднего творчества поэта (начиналось про гулящих девок, но добрый редактор не позволил цитате состояться).
Соположение столь разных подходов к выражению в общем-то близких идей выглядело прекомично, и режиссер озадачился: что будет в юмористическом отделе, коли всевозможный арсенал смеха, как ему показалось, уже исчерпан. Там-то он и нашел чаемого СП.
Название отдела, “юmorteстический”, отдавало неумным каламбуром, да и текст, там выложенный, доверия не внушал, ибо не тянул не то что на полноценный рассказ, но даже на короткую зарисовку, максимум мог претендовать на объем анекдота, только вот содержание было отнюдь не веселое.
Текст назывался “Кнопка”. По утверждению СП, когда человек появляется на свет, рядом с ним – на стене, на потолке, или даже под кроватью – варианты разнятся – природным образом зарождается кнопка уничтожения Земли. Похожа она на обычный выключатель, но обладает невероятно мощным потенциалом убийственного действия. Если ее щелкнуть, планета в пять секунд обратится в горячий дым.
И конечно, признается автор, каждый из нас нажимал эту кнопку хотя бы раз – младенцы по незнанию, подростки из озорства, студенты в отчаянии, скуфы из подленького желания навредить – а ведь сколько в мире психопатов и шизофреников, и всем им тоже положена кнопка! Так отчего же, задается автор правильным вопросом, до сих пор Земля и ее обитатели не обратились в пар, и дает парадоксальный, но в принципе логичный ответ: в любую секунду и даже в микросекунду нажимаются тысячи кнопок, непрерывные одновременные нажатия аннулируют зловещий эффект, что-то в микросхемах природы замыкает, и взрыва не происходит. Иными словами, это кнопка не уничтожения, но напротив, случайно образовавшийся механизм самосохранения Земли.
Автор подытоживает природную мудрость в кратком афоризме: тот, кто намерен навсегда сохранить мир, должен создать как можно больше средств его уничтожения.
Режиссер вернул газету на место и, посмеиваясь, пошел по своим делам.