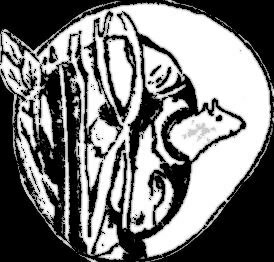Алексей Ларионов
Санкт-Петербург.
Мальчик.
Публиковался на портале «полутона», в литературно-художественном альманахе «Артикуляция» и электронном литературном журнале Лиterraтура.
Telegram-canal.
Мальчик.
Публиковался на портале «полутона», в литературно-художественном альманахе «Артикуляция» и электронном литературном журнале Лиterraтура.
Telegram-canal.
Сексуальное и насилие в литературе
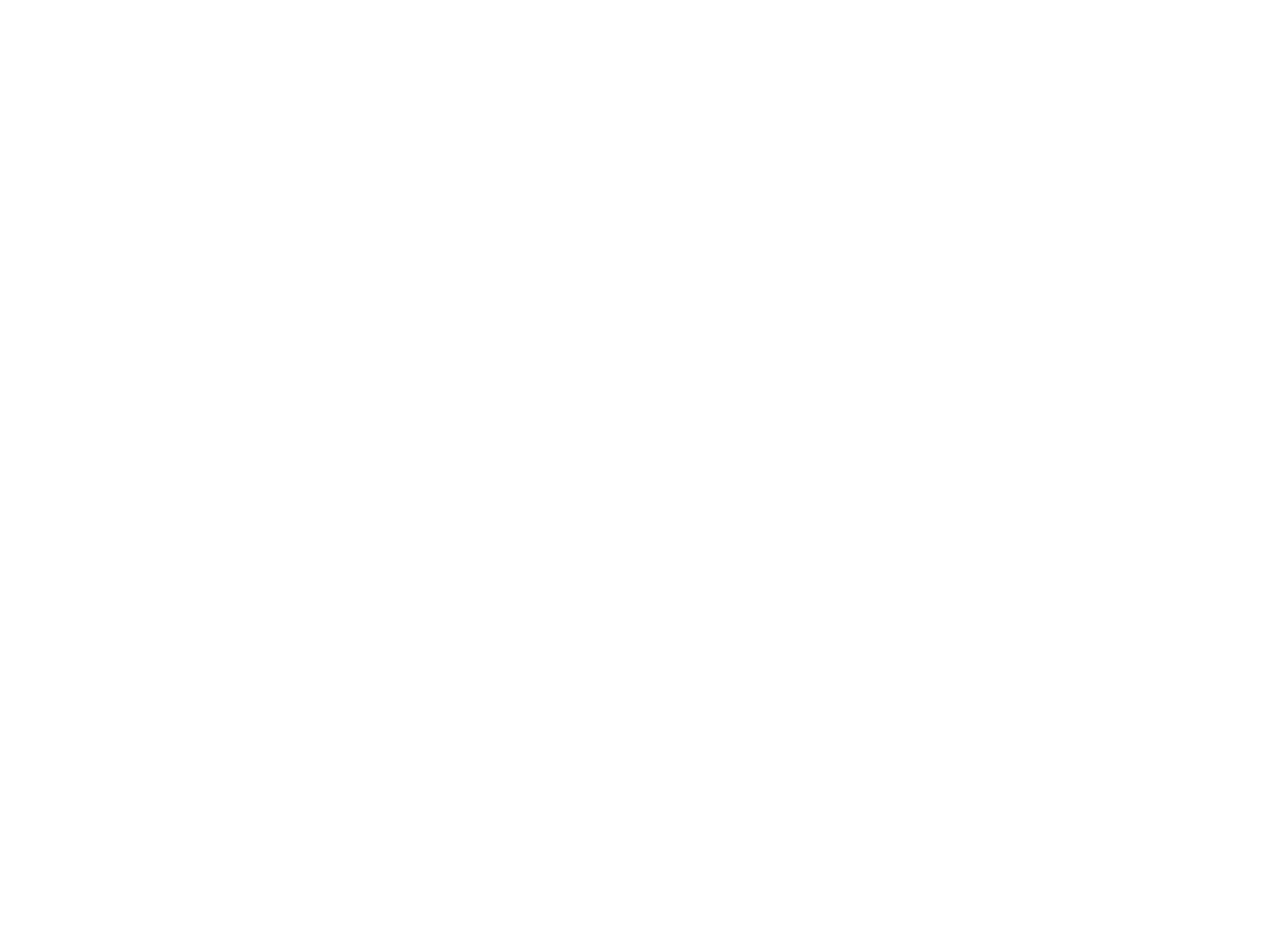
В 1970 году М.Фуко в курсе лекций «Воля к знанию», обвинил новое время в том, что, выделив сексуальное в качестве отдельного объекта, позволив обрести ему место в поле эстетики, оно вскоре приспособило этический аппарат для ее сдерживания. С тех пор сексуальное обретает означающее освобождения индивида от старой этики – власти держащегося за жизнь мира. Той власти, которую в свою очередь В. Беньямин еще до Фуко неразрывно связал с насилием. Из изложенного не сложно увидеть вырисовывающуюся бивалентную систему сексуального и насилия. Фрейдизм же в свою очередь подчинял насилие сексуальному, а фрейдомарксизм видел в сексуальном освобождение от насилия. Дальнейшие размышления над этим предметом философии 20-го века не могли не усугубить и без того запутанную ситуацию, а уж тем более не попытаться решить возникшие вопросы в поле искусства. Спектр этих отношений столь обширно рассматривается последние 100 лет, что вряд ли будет интересным проводить очередной таксономический анализ, распределяя культуру по принципам взаимодействия рассматриваемых двух сил. Не затрагивая вопросы сексуальных революций или феноменов подобных «порношику», я предлагаю вслед за манифестом Б.Латура из «Науки в действии» отправиться дальше готовых фактов отношений к месту, где эти отношения производятся. Рассмотреть взаимопродуцирование сексуального и насилия. Трансформацию процесса их производства в ходе модернизации (входа в эпоху «модерна», нахождении в ней, и исходе в растерянную «ситуативность»). Сделать это я предлагаю через призму трех литературных произведений, посвященных теме и отвечающих требованиям хронологии: «120 дней Содома» Маркиза де Сада (1785 год) «История глаза» Ж. Батая (1928 год) и «Могила для 500000 солдат» П. Гийота (1967).
Опыт «120 дней Содома»
Сексуальность и насилие, как они представляются в книге де Сада, это прежде всего практики, идеально встраиваемые в несколько наставническую речь М. Фуко из «Истории удовольствия»: «практики, посредством которых люди не просто устанавливают для себя правила поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать себя в собственном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе определённые эстетические ценности и отвечающее определённым критериям стиля». И правда, де Сад разворачивает перед нами не столько роман, сколько художественное обрамление отчета о проведении практического эксперимента по получению сексуальных удовольствий (помещенных почти целиком в пространства эстетического). По этой причине, предваряя описание самих 120 дней, автор считает обязательным дать справку по каждому действующему в тексте лицу, а также расчертить планы на услаждения, устройство замка и прочие детали. Можно сравнить это с содержанием разделов «исходные данные» и «условия работ», присущих методической документации. Окончание произведения совсем гротескно сводится к таблице (буквально), где де Сад перепроверяет данные по замученным и истерзанным как и следует в разделе «анализ результатов». Казалось бы, зачем в произведении, которое в какой-то момент укачивает читателя бурлящим (и, зачастую, утомительно однообразным) потоком жестокости, такая педантичность к излагаемым фактам? На аналогичный вопрос наводит читателя и язык автора. Не зря, именно на примере де Сада Р.Барт выдвигает концепт о «буквальном сообщении». «120 дней Содома» - это текст сведенный только к своим значениям, лишенный коннотативных смыслов. Но, если мы вернемся к тезису, что перед нами описание эксперимента, пусть лишь умственного и едва ли воплотимого в жизнь (по крайней мере в это хочется верить), то может ли форма быть иной. Для уже упоминаемого Б. Латура классическая рациональность (до «модерна») заключается в разделении эмпирического от социального, и де Сад проводит именно указанное разделение. Удовольствия, к которым так стремятся четверо героев «120 дней», оберегаются автором от социального, как иррационального, что выражается в произведении в форме христианской морали.
Дак в чем же состоит сам эксперимент де Сада и к какому выводу он приходит? Описывая еще в прологе одного из четырех главных «героев», автор указывает: «От убийств по необходимости он вскоре перешел к убийствам из сладострастия». Наследуя позитивистам, рассматриваемое удовольствие не предшествует опыту. Поэтому все 120 дней «герои» для распаления сексуального желания слушают истории, рассказываемые очевидицами-участницами, а их практики в поисках наслаждения (будь то спонтанные или выстроенные согласно многомесячному плану) обусловленны услышанным и подчинены именно ему. Происходящее можно назвать процессом верификации и последующей валидации.
Но для дальнейшего рассуждения стоит обратить внимание на то, как описаны объекты и субъекты насилия, что выбирается его инструментом. Характер персонажей отражен в их внешности по всем канонам романтической эпохи. Выбранные в жертвы девушки классифицированы как «небесные создания», молодые люди-инструменты наделены нечеловеческой физиологией, сладострастники несут печать предпочитаемых пороков. Если де Саду приходит мысль добавить какое-либо свойство герою, он видит необходимость уточнить его изображение (иногда, вступая в противоречие с написанным выше). Почему де Сад удерживает эту романтическую традицию письма? Дело в том, что, как это бы не казалось странным, Маркиз де Сад – гуманист. Объектом насилия является обожествленный гуманизмом человек с его лучшими качествами, тот самый «центр мира» де Мирандолы. И де Сад уверен, что именно этот объект достоин предлагаемых ему удовольствий, так как лишь он способен перенести их в поле эстетического. Другой вопрос, как обходится со своим подопечным автор: любое действие сексуального характера сведено к насилию, поэтому вместо пенетрации используются эвфемизмы «атака», «сражение под знаменами Содома», а предикативная этика подвергается гротескной инверсии: родство обязано быть маркировано кровесмешением; чувства отсылающие к мольбе и милосердию выступают афродизиаком четырёх мучителей; наслаждение едой смешивается с недопустимыми к столу вещами; расточаемые Господу хвалы превращаются контекстом своего произнесения в богохульство. Самым ярким, пожалуй, предстает использование в экспериментах просвиры, издевательски вырывающее плоть Христа из-под оберега метафоры, насильственно вовлекая фигуру Бога в действие. При этом мы можем видеть, что Маркизом строго сохраняется этическая иерархия гуманистической традиции: жестокость к животным ставится «выше» мучения людей, мучения духовные выше страданий физических, убийство же человека логично превалирует над всем.Однако среди всей этой череды жестокости ни одно из убийств не несет на себе печать жертвоприношения. Персонажи обезличены, мнимая ритуальность преследует только цель изощренности. Жижек в статье «Канта и Сад: идеальная пара», указывает: «…если мы примем его известную предпосылку о том, что власть присутствует везде… и затем приравняем власть к насилию, то мы окажемся в мире, полностью пронизанном насилием.». И как я уже сказал ранее: де Саду необходимо разделить социальное и природное, свести все к последнему, которое для автора лежит в поле эстетики сексуального (этакого природного императива). Для операции переноса и нужно насилие – универсальный фильтр между этикой и эстетикой. Даже текстуально насилие в области описываемых опытов подчинено рациональности и строго ограничено телеологией, достигая своего пика в момент оргазма мучителя, где убийство представляется жутковатой аллегорией разрядки, увеличивающей гнет власти, не поддающейся отчету даже перед обществом, лишь перед природой удовольствия. Писатель не видит возможности равенства между сексуальным и насилием, для него одно обслуживает другое. Маркиз де Сад пресекает гибридизацию природы и социального, защищая сексуальное удовольствие от общественной морали, не покидая при этом дискурс гуманизма. Этическое предлагается лишь применять в эстетическом, но само оно, вопреки распространенным мнениям о де Саде, не подвергается развенчанию. Оно просто не лежит в исследуемой области человеческой природы. Гуманизм – это и есть единственная жертва в произведении. Таким образом де Сад, рассматривая секс и насилие, крепко стоит на позиции «донововременного человека».
Метод «Истории глаза»
Человек «нового времени» перестает верить в трансцендентность этики, отходит от представлений об императивах. В отличии от де Сада он не абстрагируется от поля социального в пользу природного, он пытается изобрести в культуре метод избавления от нее самой, возвращение к природе, которой себя противопоставляет. Этим поиском обременено родство главных героев «Истории глаза» (рассказчика и Симоны): с подросткового возраста они испытывают «недовольство культурой», являющейся, как и в одноименном трактате Фрейда, репрессивным органом человеческой сексуальности. Они не готовы выполнять установленную конвенцию, и в поисках своей сексуальности попирают самое оберегаемое культурой – выраженные в символическом поле социальные табу. Ожидаемо, это вызывает у окружающих «обывателей» непринятие (да что уж, многие читатели «Истории глаза» – из моих наблюдений – не избегают подобного эффекта). При этом семантика желания, эта асоциальная аксиоматика языка сексуального, рождается в голове Симоны, а рассказчик перенимает его, от чего испытывает к подруге еще большую привязанность. Поначалу сексуальность героев в своих поисках затрагивает лишь насилие над предустановленными нормами. Но стоит героям вовлечь в их отношения третью – Марсель, девушку, строго структурированную христианским катехизисом и культурной нравственностью – сексуальное поле главных героев стремительно перестраивается. Хтоническая сфера сексуального, выраженная в образах солнца (ассоциируемого Батаем с божественным насилием, с синтезом высокого и низкого), его аллегорией-глазом и прочего, представляется достижимой через медиума-жертву. Это та фигура жертвенности, которую Батай называет «непроизводительной тратой», обменом, который позволяет трансгрессировать жрецам с божественным. Достичь того, что автор в «Теории религии» назовет «интимностью», где жертвоприношение – способ достичь «интимного соглашения между жизнью и смертью». Первичная связь между героями и жертвой устанавливается через случайно увиденное Марсель «действо» рассказчика и Симоны, а вскоре, на превратившейся в оргию вечеринке, Марсель окончательно подчиняется желающей машине, и решается на получение сексуального удовольствия. Однако, даже в этот момент, она пытается скрыться (спастись) от объектов власти, установленной над ней, спрятавшись в шкаф. Что оборачивается для бедной девушки разрывом между миром реального и фантазией с последующим сумасшествием, а для героев окончательным утверждением предмета «интимности» и сакрализации жертвы. Марсель свой кататонической безвольностью, своим «непротивлением», превращается в ось сексуализации героев. Получив это зазорное, тайное наслаждение в шкафу, Марсель стала для двоих объектом миметического желания, которым герои страстно хотят завладеть. Я бы сравнил это с влечением к двойнику, к тени, описанному Р.Жираром в «Критике из подполья», вызывающее одержимость объектом. Даже заведение для душевнобольных не спасает девушку от рассказчика и Симоны, что заканчивается случайной (хотя, очевидно, неизбежной) смертью Марсель. Единственный раз, когда герои занимаются сексом (столь обыденным, что автор не дает ни одной детали) – это под эффектом животного единения, вызванного трагедией. Насилие над сакральным (а Марсель стала для них именно этим) позволило им достичь «интимности» без символических прибавок к самому акту, без дополнительного попирания табу. В конце произведения «интимность» вновь выменивается у мира заместительным жертвоприношением священника и его предшествующего грехопадения.
Но, как я указал раньше, для достижения этого трансцендентального сексуального – «интимного» - герои прибегают еще к одному виду насилия – семантическому. Образ глаза/солнца, который возникает в вареных яйцах, бросаемых в туалет, в отрезанных тестикулах быка, в изувеченном теле тореадора под палящими лучами и ревом толпы, даже в испорченных простынях (ну и конечно пугающе эффектный образ глаза, завершающий текст) – это смешения высокого и низкого, физиологического и космологического, «самоотрицание природы», о котором говорит Батай в «Солнечном анусе» и «Истории эротизма». То, что порождает феномен «низкого материализма» – способа освободиться от «идиотского идеализма, который удерживает нас под чарами кучки комичных тюремных начальников» (Ж. Батай, «Низкий материализм и гностицизм»). «Интимность», выуживаемая этим насилием над полем смыслов, достигает пика в момент, когда Симона, смотря на яйца, бросаемые рассказчиком в туалет, не выдерживает и совершает акт дефекации – это (и секс после смерти Марсель) как буквально указывается в тексте тот случай, который никогда больше не обсуждался и даже не вспоминался героями больше (очевидно по причине испытанного наслаждения). Столь явное смешение с низменным повергает символ, переносит его в реальность и превращает его насильственно в тот самый «низкий материализм. Тот, что «стирает грань между извращением и насилием» и выступает против царившей в культуре истины (логоса).
Трансгрессия в сексуальное путем насилия над логосом ассоциируется Батаем, как способ вернуть человеку отобранное культурой животное начало. Именно опьянение желанием связывается художественными образами в тексте с анималистическим: герои сравниваются с голыми зверьми, собаками, а Симона предстает в делириуме Марсель в образе волка. Шок от «интимности», порожденной смертью Марсель, сравнивается с криком петуха встречающего солнце, столь неразличимым от крика, издаваемого при отрубании этой птице головы. В терминологии В. Беньямина насилие «Истории глаза» – божественное насилие. Оно «разяще и бескровно» (и правда, в тексте смерть предстает лишь как событие без каких-либо атрибутов), оно сакрализирует разворачиваемые события, вносит в сексуальное истинную «интимность». Страсть, которая питается этим насилием может быть определена в пространстве эстетики-этики. Для нее эти понятия просто иного сорта. Как говорит Р. Жирар: «трагедия разъедает и разлагает различие во взаимности конфликта» она уравнивает и смешивает, то есть создает диспозитив «интимности». И, в отличии от персонажей де Сада, герои «Истории глаза» - это субъекты ушедшие от классического рационализма и эмпирики, но страдающие от разрыва с природой, пытающиеся устранить этот разрыв, трансгрессировать в «истинное» через включающую в себя сексуальное и насилие «интимность».
Гибридизация в «Могиле для 500000 солдат»
История 20 века ставит следующий вопрос: что происходит, когда сексуальное и насилие уходят за пределы этики и эстетики, но и не не могут трансгрессировать «интимностью» из-за масштаба и дефицита сакральности? Что происходит в таком мире, где, по формуле М.Фуко, абсолютно никто не свободен и уже не может существовать власть, где насилие перестает иметь цель. Но несмотря на утрату цели, оно не исчезло, оно превратилось в террор. В мире, описанном Гийота в «Могиле для 500000 солдат» нет больше ни субъекта, ни объекта, каждый является соучастником и жертвой насилия-террора. А оно в свою очередь не имеет хозяина, лишь актантов По ходу повествования автор дает читателю героя, выделяет его именем среди утопающей в ужасе происходящего массы, позволяет ему стать протагонистом, а потом уничтожает его столь пренебрежительно, что читателю требуется немало внимания дабы распознать утопленного в чане с супом персонажа среди прочих декораций. И так раз за разом. Террор обладает собственной онтологией в романе и определяет роль и самосознание персонажей. Одна из «одноразовых» протагонистов, ужасаясь насилием супруга, все же заключает: «..ради меня человек истязает и убивает жертву … как богине, эта жертва мне приятна, она освобождает…». Невозможность обрести контроль над происходящим текстуально реализуется то переключениями повествования от третьего лица к первому, то от «буквального сообщения» де Сада к насыщенной поэтической образности. Ужасы смерти описываются через аллегории умиротворенной природы: например, предсмертный хрип сравнивается с шелестом гальки под морской волной. Гийота не позволяет читателю найти устойчивую позицию, для взгляда на происходящего.
Это мир внутреннего конфликта, перенесенный с помощью войны из трагедии в динамический, бесформенный эпос (не зря этот текст делится на песни). И сексуальное в этом «анусе мира», как называется место действия в рецензии к книге Стивена Барбера, проявляется именно на сведенных до голого тела людях, как «включение через исключение» Д. Агамбена. Как и Homo sacer, никто из персонажей не достоин быть жертвой (поэтому насилие не может быть остановлено сакральным актом), каждый исключен, но он включается обратно в происходящее через сексуальное. Сексуальное и жестокое здесь не разделены гранью, мы не можем сказать, что есть насилие, а что есть секс – одно работает словно контекстная ссылка на другое. Даже лирическая нежность влюбленных пропитана жестокостью: «Я люблю Йемену. Когда ее голова подпрыгивает на ступеньке уборной, когда на ее растрепанные волосы липнет дерьмо, когда склонившийся над ней мужчина вливает ей в рот вино, она прекрасна». А король-узурпатор имея в любовниках капитана гвардии и предводителя повстанцев называет их «двумя артериями сумеречного сердца» и позволяет двум силам убивать друг друга. Сексуальное желание у Гийота, в отличии от Батая, не является самоотрицание природы, оно вирус, занесенный человеком. Даже дети в романе источники сексуального желания и насилия, но животные лишь наблюдатели или безвольные жертвы (самой жуткой, пожалуй, за весь текст является именно сцена сексуального насилия с животным, но у меня нет способа описать хоть часть происходящего, не нарушая закон). Сексуальное, лишенное «интимного», по Гийота, обращается обратно к насилию, а эта транзакция и есть человек. И как произносит одна из героинь: «кровь человеческая разгоняет меланхолию, а кровь животных повергает в ужас», а один из офицеров, узнав, что солдаты съели собаку, избивает до полусмерти не только их, но и себя, осознавая свою онтологическую причастность. В финале же, в природу, очищенную от войны всех против всех взаимоуничтожением людей, описываемую автором как Эдем (где неведомо насилие и все живут в мире), вновь вторгается проклятие – стоит двоим выжившим влюбленным испытать взаимное сексуальное желание, звери начинают убивать и пожирать друг друга, а злополучные любовники превращаются в гибридов людей-зверей. Вообще, в «Могиле для 500000 солдат» множество библейских аллюзий и все они отсылают именно к первородному греху, как условию существования человека, но и проклятию природы. Таким образом, хоть насилие и довлеет над всем происходящим, оно словно детерминировано самим существованием сексуального желания: именно из борделя в последней песне вырывается поток насилия, уничтожающий всех. Но в тоже время сексуальное желание столь бесконтрольно, что обладает той «божественностью», какой у Батая наделено солнце. А полное сочетание с ним, превращение в квазиобъект человека и его желания дарует свободу, а значит и возможность власти. Так человек не способный контролировать свое желание, бросающийся обнаженным на собственных солдат, дослуживается в мире Гийота до талантливого генерала (и на реплику «Господин генерал, штаб осведомлен о вашей морали» герой отвечает: «У меня нет морали»). Желание его заходит так далеко, что ему не нужна ни пища, ни вода, ни сон – он сведен до одного желания и питается удовлетворением его. Схожим образом предстает перед нами уже упоминаемый ранее король, чья сексуальная меланхолия и запускает террор. Во всей книге только сексуальное желание этих двоих освобождено от диктата, не поддается отчету, и является подлинно желанием господина. Потому оба знают, что в конце, чтобы остановить это колесо именно они должны быть той сакральной жертвой.
В мире Гийота сексуальное, насилие и человеческое постоянно разделяются друг от друга, оставляя после себя гибриды. Именно поэтому мы не можем перейти ни к эстетическому, ни к этическому суждению, указанная гибридизация всегда оставляется за нашим суждением «но». Подобно «парламенту вещей», природа, общество, дискурсы, люди образуют квазиобъект насилия и сексуального.
В области секса и насилия мы уже не можем отправиться в след за де Садом к исследованию грани превращая одно в другое, но и не готовы удовлетвориться взаимоуничтожением их друг в друге. В «Мы никогда не были современными» Б. Латур говорит о ситуации, перед которой мы оказались: «Конституция Нового Времени объясняла все, упуская при этом из виду то, что находилось посередине. “Это пустяки, это совсем ничто, это простой остаток”, - говорила она». И текст Гийота обнажает, что остатком от сексуального и насилия, гибридом (чудовищем синтеза), оставленным нами за спиной в процессе отделения первого от второго и есть субъект. И если вслед за Агамбеном повторить, что «человек – смертельная болезнь животного», то парадокс заключается в том, что без «человека» невозможно ни поставить диагноз, ни заявить о существовании самого пациента.
Опыт «120 дней Содома»
Сексуальность и насилие, как они представляются в книге де Сада, это прежде всего практики, идеально встраиваемые в несколько наставническую речь М. Фуко из «Истории удовольствия»: «практики, посредством которых люди не просто устанавливают для себя правила поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать себя в собственном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе определённые эстетические ценности и отвечающее определённым критериям стиля». И правда, де Сад разворачивает перед нами не столько роман, сколько художественное обрамление отчета о проведении практического эксперимента по получению сексуальных удовольствий (помещенных почти целиком в пространства эстетического). По этой причине, предваряя описание самих 120 дней, автор считает обязательным дать справку по каждому действующему в тексте лицу, а также расчертить планы на услаждения, устройство замка и прочие детали. Можно сравнить это с содержанием разделов «исходные данные» и «условия работ», присущих методической документации. Окончание произведения совсем гротескно сводится к таблице (буквально), где де Сад перепроверяет данные по замученным и истерзанным как и следует в разделе «анализ результатов». Казалось бы, зачем в произведении, которое в какой-то момент укачивает читателя бурлящим (и, зачастую, утомительно однообразным) потоком жестокости, такая педантичность к излагаемым фактам? На аналогичный вопрос наводит читателя и язык автора. Не зря, именно на примере де Сада Р.Барт выдвигает концепт о «буквальном сообщении». «120 дней Содома» - это текст сведенный только к своим значениям, лишенный коннотативных смыслов. Но, если мы вернемся к тезису, что перед нами описание эксперимента, пусть лишь умственного и едва ли воплотимого в жизнь (по крайней мере в это хочется верить), то может ли форма быть иной. Для уже упоминаемого Б. Латура классическая рациональность (до «модерна») заключается в разделении эмпирического от социального, и де Сад проводит именно указанное разделение. Удовольствия, к которым так стремятся четверо героев «120 дней», оберегаются автором от социального, как иррационального, что выражается в произведении в форме христианской морали.
Дак в чем же состоит сам эксперимент де Сада и к какому выводу он приходит? Описывая еще в прологе одного из четырех главных «героев», автор указывает: «От убийств по необходимости он вскоре перешел к убийствам из сладострастия». Наследуя позитивистам, рассматриваемое удовольствие не предшествует опыту. Поэтому все 120 дней «герои» для распаления сексуального желания слушают истории, рассказываемые очевидицами-участницами, а их практики в поисках наслаждения (будь то спонтанные или выстроенные согласно многомесячному плану) обусловленны услышанным и подчинены именно ему. Происходящее можно назвать процессом верификации и последующей валидации.
Но для дальнейшего рассуждения стоит обратить внимание на то, как описаны объекты и субъекты насилия, что выбирается его инструментом. Характер персонажей отражен в их внешности по всем канонам романтической эпохи. Выбранные в жертвы девушки классифицированы как «небесные создания», молодые люди-инструменты наделены нечеловеческой физиологией, сладострастники несут печать предпочитаемых пороков. Если де Саду приходит мысль добавить какое-либо свойство герою, он видит необходимость уточнить его изображение (иногда, вступая в противоречие с написанным выше). Почему де Сад удерживает эту романтическую традицию письма? Дело в том, что, как это бы не казалось странным, Маркиз де Сад – гуманист. Объектом насилия является обожествленный гуманизмом человек с его лучшими качествами, тот самый «центр мира» де Мирандолы. И де Сад уверен, что именно этот объект достоин предлагаемых ему удовольствий, так как лишь он способен перенести их в поле эстетического. Другой вопрос, как обходится со своим подопечным автор: любое действие сексуального характера сведено к насилию, поэтому вместо пенетрации используются эвфемизмы «атака», «сражение под знаменами Содома», а предикативная этика подвергается гротескной инверсии: родство обязано быть маркировано кровесмешением; чувства отсылающие к мольбе и милосердию выступают афродизиаком четырёх мучителей; наслаждение едой смешивается с недопустимыми к столу вещами; расточаемые Господу хвалы превращаются контекстом своего произнесения в богохульство. Самым ярким, пожалуй, предстает использование в экспериментах просвиры, издевательски вырывающее плоть Христа из-под оберега метафоры, насильственно вовлекая фигуру Бога в действие. При этом мы можем видеть, что Маркизом строго сохраняется этическая иерархия гуманистической традиции: жестокость к животным ставится «выше» мучения людей, мучения духовные выше страданий физических, убийство же человека логично превалирует над всем.Однако среди всей этой череды жестокости ни одно из убийств не несет на себе печать жертвоприношения. Персонажи обезличены, мнимая ритуальность преследует только цель изощренности. Жижек в статье «Канта и Сад: идеальная пара», указывает: «…если мы примем его известную предпосылку о том, что власть присутствует везде… и затем приравняем власть к насилию, то мы окажемся в мире, полностью пронизанном насилием.». И как я уже сказал ранее: де Саду необходимо разделить социальное и природное, свести все к последнему, которое для автора лежит в поле эстетики сексуального (этакого природного императива). Для операции переноса и нужно насилие – универсальный фильтр между этикой и эстетикой. Даже текстуально насилие в области описываемых опытов подчинено рациональности и строго ограничено телеологией, достигая своего пика в момент оргазма мучителя, где убийство представляется жутковатой аллегорией разрядки, увеличивающей гнет власти, не поддающейся отчету даже перед обществом, лишь перед природой удовольствия. Писатель не видит возможности равенства между сексуальным и насилием, для него одно обслуживает другое. Маркиз де Сад пресекает гибридизацию природы и социального, защищая сексуальное удовольствие от общественной морали, не покидая при этом дискурс гуманизма. Этическое предлагается лишь применять в эстетическом, но само оно, вопреки распространенным мнениям о де Саде, не подвергается развенчанию. Оно просто не лежит в исследуемой области человеческой природы. Гуманизм – это и есть единственная жертва в произведении. Таким образом де Сад, рассматривая секс и насилие, крепко стоит на позиции «донововременного человека».
Метод «Истории глаза»
Человек «нового времени» перестает верить в трансцендентность этики, отходит от представлений об императивах. В отличии от де Сада он не абстрагируется от поля социального в пользу природного, он пытается изобрести в культуре метод избавления от нее самой, возвращение к природе, которой себя противопоставляет. Этим поиском обременено родство главных героев «Истории глаза» (рассказчика и Симоны): с подросткового возраста они испытывают «недовольство культурой», являющейся, как и в одноименном трактате Фрейда, репрессивным органом человеческой сексуальности. Они не готовы выполнять установленную конвенцию, и в поисках своей сексуальности попирают самое оберегаемое культурой – выраженные в символическом поле социальные табу. Ожидаемо, это вызывает у окружающих «обывателей» непринятие (да что уж, многие читатели «Истории глаза» – из моих наблюдений – не избегают подобного эффекта). При этом семантика желания, эта асоциальная аксиоматика языка сексуального, рождается в голове Симоны, а рассказчик перенимает его, от чего испытывает к подруге еще большую привязанность. Поначалу сексуальность героев в своих поисках затрагивает лишь насилие над предустановленными нормами. Но стоит героям вовлечь в их отношения третью – Марсель, девушку, строго структурированную христианским катехизисом и культурной нравственностью – сексуальное поле главных героев стремительно перестраивается. Хтоническая сфера сексуального, выраженная в образах солнца (ассоциируемого Батаем с божественным насилием, с синтезом высокого и низкого), его аллегорией-глазом и прочего, представляется достижимой через медиума-жертву. Это та фигура жертвенности, которую Батай называет «непроизводительной тратой», обменом, который позволяет трансгрессировать жрецам с божественным. Достичь того, что автор в «Теории религии» назовет «интимностью», где жертвоприношение – способ достичь «интимного соглашения между жизнью и смертью». Первичная связь между героями и жертвой устанавливается через случайно увиденное Марсель «действо» рассказчика и Симоны, а вскоре, на превратившейся в оргию вечеринке, Марсель окончательно подчиняется желающей машине, и решается на получение сексуального удовольствия. Однако, даже в этот момент, она пытается скрыться (спастись) от объектов власти, установленной над ней, спрятавшись в шкаф. Что оборачивается для бедной девушки разрывом между миром реального и фантазией с последующим сумасшествием, а для героев окончательным утверждением предмета «интимности» и сакрализации жертвы. Марсель свой кататонической безвольностью, своим «непротивлением», превращается в ось сексуализации героев. Получив это зазорное, тайное наслаждение в шкафу, Марсель стала для двоих объектом миметического желания, которым герои страстно хотят завладеть. Я бы сравнил это с влечением к двойнику, к тени, описанному Р.Жираром в «Критике из подполья», вызывающее одержимость объектом. Даже заведение для душевнобольных не спасает девушку от рассказчика и Симоны, что заканчивается случайной (хотя, очевидно, неизбежной) смертью Марсель. Единственный раз, когда герои занимаются сексом (столь обыденным, что автор не дает ни одной детали) – это под эффектом животного единения, вызванного трагедией. Насилие над сакральным (а Марсель стала для них именно этим) позволило им достичь «интимности» без символических прибавок к самому акту, без дополнительного попирания табу. В конце произведения «интимность» вновь выменивается у мира заместительным жертвоприношением священника и его предшествующего грехопадения.
Но, как я указал раньше, для достижения этого трансцендентального сексуального – «интимного» - герои прибегают еще к одному виду насилия – семантическому. Образ глаза/солнца, который возникает в вареных яйцах, бросаемых в туалет, в отрезанных тестикулах быка, в изувеченном теле тореадора под палящими лучами и ревом толпы, даже в испорченных простынях (ну и конечно пугающе эффектный образ глаза, завершающий текст) – это смешения высокого и низкого, физиологического и космологического, «самоотрицание природы», о котором говорит Батай в «Солнечном анусе» и «Истории эротизма». То, что порождает феномен «низкого материализма» – способа освободиться от «идиотского идеализма, который удерживает нас под чарами кучки комичных тюремных начальников» (Ж. Батай, «Низкий материализм и гностицизм»). «Интимность», выуживаемая этим насилием над полем смыслов, достигает пика в момент, когда Симона, смотря на яйца, бросаемые рассказчиком в туалет, не выдерживает и совершает акт дефекации – это (и секс после смерти Марсель) как буквально указывается в тексте тот случай, который никогда больше не обсуждался и даже не вспоминался героями больше (очевидно по причине испытанного наслаждения). Столь явное смешение с низменным повергает символ, переносит его в реальность и превращает его насильственно в тот самый «низкий материализм. Тот, что «стирает грань между извращением и насилием» и выступает против царившей в культуре истины (логоса).
Трансгрессия в сексуальное путем насилия над логосом ассоциируется Батаем, как способ вернуть человеку отобранное культурой животное начало. Именно опьянение желанием связывается художественными образами в тексте с анималистическим: герои сравниваются с голыми зверьми, собаками, а Симона предстает в делириуме Марсель в образе волка. Шок от «интимности», порожденной смертью Марсель, сравнивается с криком петуха встречающего солнце, столь неразличимым от крика, издаваемого при отрубании этой птице головы. В терминологии В. Беньямина насилие «Истории глаза» – божественное насилие. Оно «разяще и бескровно» (и правда, в тексте смерть предстает лишь как событие без каких-либо атрибутов), оно сакрализирует разворачиваемые события, вносит в сексуальное истинную «интимность». Страсть, которая питается этим насилием может быть определена в пространстве эстетики-этики. Для нее эти понятия просто иного сорта. Как говорит Р. Жирар: «трагедия разъедает и разлагает различие во взаимности конфликта» она уравнивает и смешивает, то есть создает диспозитив «интимности». И, в отличии от персонажей де Сада, герои «Истории глаза» - это субъекты ушедшие от классического рационализма и эмпирики, но страдающие от разрыва с природой, пытающиеся устранить этот разрыв, трансгрессировать в «истинное» через включающую в себя сексуальное и насилие «интимность».
Гибридизация в «Могиле для 500000 солдат»
История 20 века ставит следующий вопрос: что происходит, когда сексуальное и насилие уходят за пределы этики и эстетики, но и не не могут трансгрессировать «интимностью» из-за масштаба и дефицита сакральности? Что происходит в таком мире, где, по формуле М.Фуко, абсолютно никто не свободен и уже не может существовать власть, где насилие перестает иметь цель. Но несмотря на утрату цели, оно не исчезло, оно превратилось в террор. В мире, описанном Гийота в «Могиле для 500000 солдат» нет больше ни субъекта, ни объекта, каждый является соучастником и жертвой насилия-террора. А оно в свою очередь не имеет хозяина, лишь актантов По ходу повествования автор дает читателю героя, выделяет его именем среди утопающей в ужасе происходящего массы, позволяет ему стать протагонистом, а потом уничтожает его столь пренебрежительно, что читателю требуется немало внимания дабы распознать утопленного в чане с супом персонажа среди прочих декораций. И так раз за разом. Террор обладает собственной онтологией в романе и определяет роль и самосознание персонажей. Одна из «одноразовых» протагонистов, ужасаясь насилием супруга, все же заключает: «..ради меня человек истязает и убивает жертву … как богине, эта жертва мне приятна, она освобождает…». Невозможность обрести контроль над происходящим текстуально реализуется то переключениями повествования от третьего лица к первому, то от «буквального сообщения» де Сада к насыщенной поэтической образности. Ужасы смерти описываются через аллегории умиротворенной природы: например, предсмертный хрип сравнивается с шелестом гальки под морской волной. Гийота не позволяет читателю найти устойчивую позицию, для взгляда на происходящего.
Это мир внутреннего конфликта, перенесенный с помощью войны из трагедии в динамический, бесформенный эпос (не зря этот текст делится на песни). И сексуальное в этом «анусе мира», как называется место действия в рецензии к книге Стивена Барбера, проявляется именно на сведенных до голого тела людях, как «включение через исключение» Д. Агамбена. Как и Homo sacer, никто из персонажей не достоин быть жертвой (поэтому насилие не может быть остановлено сакральным актом), каждый исключен, но он включается обратно в происходящее через сексуальное. Сексуальное и жестокое здесь не разделены гранью, мы не можем сказать, что есть насилие, а что есть секс – одно работает словно контекстная ссылка на другое. Даже лирическая нежность влюбленных пропитана жестокостью: «Я люблю Йемену. Когда ее голова подпрыгивает на ступеньке уборной, когда на ее растрепанные волосы липнет дерьмо, когда склонившийся над ней мужчина вливает ей в рот вино, она прекрасна». А король-узурпатор имея в любовниках капитана гвардии и предводителя повстанцев называет их «двумя артериями сумеречного сердца» и позволяет двум силам убивать друг друга. Сексуальное желание у Гийота, в отличии от Батая, не является самоотрицание природы, оно вирус, занесенный человеком. Даже дети в романе источники сексуального желания и насилия, но животные лишь наблюдатели или безвольные жертвы (самой жуткой, пожалуй, за весь текст является именно сцена сексуального насилия с животным, но у меня нет способа описать хоть часть происходящего, не нарушая закон). Сексуальное, лишенное «интимного», по Гийота, обращается обратно к насилию, а эта транзакция и есть человек. И как произносит одна из героинь: «кровь человеческая разгоняет меланхолию, а кровь животных повергает в ужас», а один из офицеров, узнав, что солдаты съели собаку, избивает до полусмерти не только их, но и себя, осознавая свою онтологическую причастность. В финале же, в природу, очищенную от войны всех против всех взаимоуничтожением людей, описываемую автором как Эдем (где неведомо насилие и все живут в мире), вновь вторгается проклятие – стоит двоим выжившим влюбленным испытать взаимное сексуальное желание, звери начинают убивать и пожирать друг друга, а злополучные любовники превращаются в гибридов людей-зверей. Вообще, в «Могиле для 500000 солдат» множество библейских аллюзий и все они отсылают именно к первородному греху, как условию существования человека, но и проклятию природы. Таким образом, хоть насилие и довлеет над всем происходящим, оно словно детерминировано самим существованием сексуального желания: именно из борделя в последней песне вырывается поток насилия, уничтожающий всех. Но в тоже время сексуальное желание столь бесконтрольно, что обладает той «божественностью», какой у Батая наделено солнце. А полное сочетание с ним, превращение в квазиобъект человека и его желания дарует свободу, а значит и возможность власти. Так человек не способный контролировать свое желание, бросающийся обнаженным на собственных солдат, дослуживается в мире Гийота до талантливого генерала (и на реплику «Господин генерал, штаб осведомлен о вашей морали» герой отвечает: «У меня нет морали»). Желание его заходит так далеко, что ему не нужна ни пища, ни вода, ни сон – он сведен до одного желания и питается удовлетворением его. Схожим образом предстает перед нами уже упоминаемый ранее король, чья сексуальная меланхолия и запускает террор. Во всей книге только сексуальное желание этих двоих освобождено от диктата, не поддается отчету, и является подлинно желанием господина. Потому оба знают, что в конце, чтобы остановить это колесо именно они должны быть той сакральной жертвой.
В мире Гийота сексуальное, насилие и человеческое постоянно разделяются друг от друга, оставляя после себя гибриды. Именно поэтому мы не можем перейти ни к эстетическому, ни к этическому суждению, указанная гибридизация всегда оставляется за нашим суждением «но». Подобно «парламенту вещей», природа, общество, дискурсы, люди образуют квазиобъект насилия и сексуального.
В области секса и насилия мы уже не можем отправиться в след за де Садом к исследованию грани превращая одно в другое, но и не готовы удовлетвориться взаимоуничтожением их друг в друге. В «Мы никогда не были современными» Б. Латур говорит о ситуации, перед которой мы оказались: «Конституция Нового Времени объясняла все, упуская при этом из виду то, что находилось посередине. “Это пустяки, это совсем ничто, это простой остаток”, - говорила она». И текст Гийота обнажает, что остатком от сексуального и насилия, гибридом (чудовищем синтеза), оставленным нами за спиной в процессе отделения первого от второго и есть субъект. И если вслед за Агамбеном повторить, что «человек – смертельная болезнь животного», то парадокс заключается в том, что без «человека» невозможно ни поставить диагноз, ни заявить о существовании самого пациента.