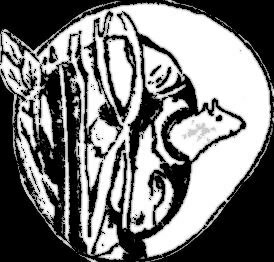Ольга Балла-Гертман
журналист, литературный критик, эссеист.
Родилась в 1965 году в Москве, окончила исторический факультет Московского педагогического университета.
Зав. отделом критики и библиографии журнала "Знамя", зав. отделом философии и культурологии журнала "Знание - Сила".
Родилась в 1965 году в Москве, окончила исторический факультет Московского педагогического университета.
Зав. отделом критики и библиографии журнала "Знамя", зав. отделом философии и культурологии журнала "Знание - Сила".
Неисчерпаемые рудники тайн (трилистник эстетико-этический)
Тема нашего сегодняшнего обзора — фрагментарная проза разной степени дневниковости, черновиковости и карманности и те идеи, внутренние позиции, которые вызывают к жизни все ее, лишь по видимости случайные, фрагменты и удерживают в цельности всю их совокупность, как бы та ни разрасталась и где бы ни прерывалась. Авторы ныне обозреваемых книг — люди разных эпох и даже разных культур, — тем интереснее будет рассмотреть их вместе, тем более, что распределение позиций между ними — чистой волею случая — получилось на удивление удачным: перед нами — чистый (казалось бы) эстет, чистейший и категорический этик и человек, занимающий эстетическую и этическую позицию одновременно — даже не особенно их разделяя. В глубине же всех наших рассуждений об этих книгах лежит очередной раз подтверждающееся подозрение, что эстетика с этикой совсем не так далеки друг от друга, как иногда кажется и как хотелось бы им самим, и вообще-то, скажем по секрету, в сущности своей они — одно и то же.
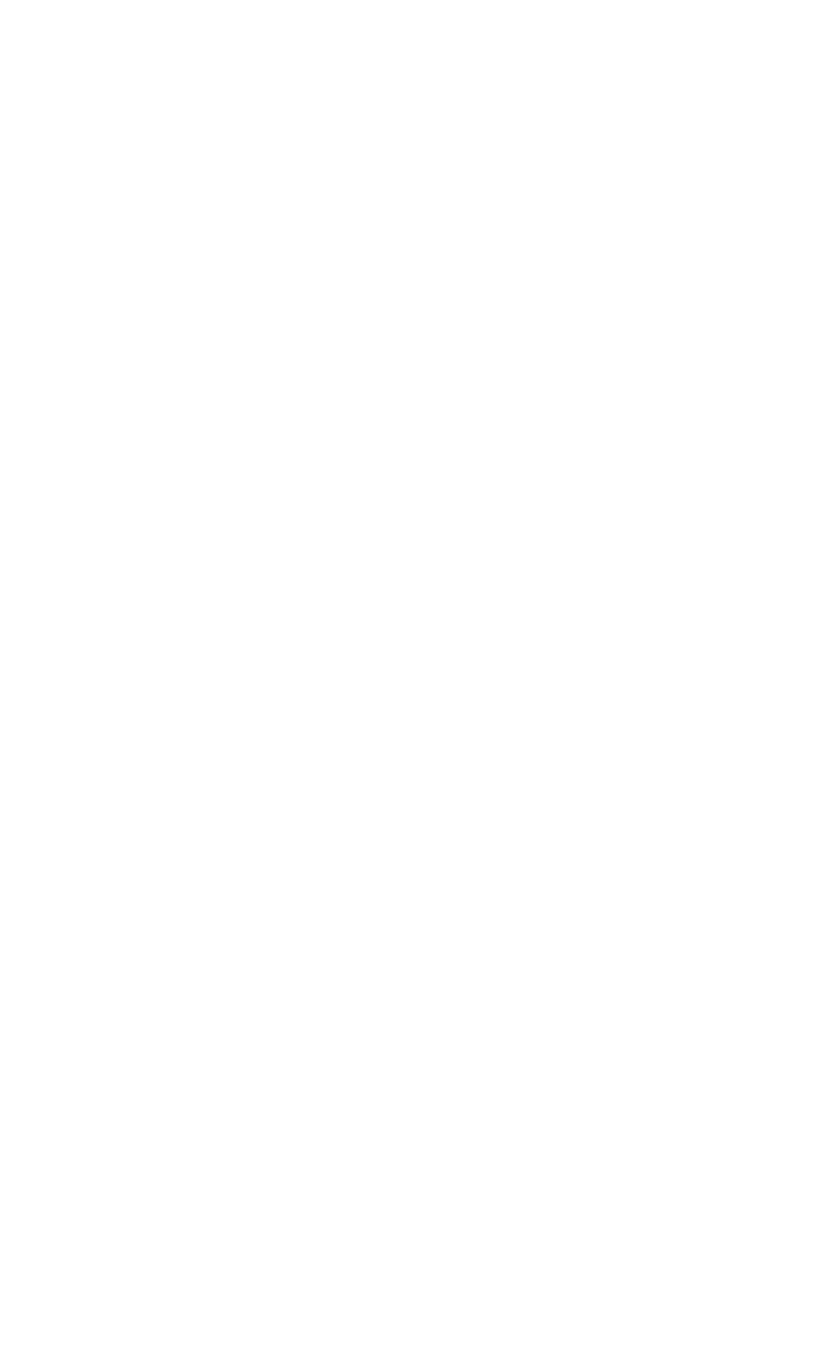
Хьюберт Крэкенторп. Виньетки: миниатюрный дневник причуд и сантиментов / Предисловие Д. Тибета. Пер. с англ. Л. Александровского. — М.: Ibicus Press, 2024.
Имени Хьюберта Монтегю Крэкенторпа (1870–1896), «одного из “молодых трупов” викторианской литературы», основное число читающих по-русски с высокой вероятностью не слышало никогда (тем более, что это первый перевод его на наш язык), как, возможно, и волнующего названия эстетической группы, к которой он принадлежал (нет, это не самоназвание). Между тем у этой группы точно есть один участник, известный даже неспециалистам, — Обри Бердсли. К тому же сообществу художественной богемы принадлежали Эрнест Доусон, Лайонел Джонсон, Генри Харланд, Эрик Стенбок, и все они были в орбите влияния Оскара Уайльда, и многие — среди них и наш герой — участвовали в издании «Желтой книги», английского авангардного литературного журнала, выходившего ежеквартально в 1894–1897 годах и влиятельного настолько, что он дал название последнему десятилетию британского XIX века — «желтые девяностые»; и все они — кроме разве Харланда, дожившего до сорока четырех, — умерли, не достигнув тридцати (поэтому и «молодые трупы»). Крэкенторп, принадлежавший, как видим, к самой сердцевине литературной жизни своего времени, из всех его собратьев по группе известен, пожалуй, менее всего, и книга — скорее, книжечка, — которую теперь держит в руках русский читатель, — последняя, вышедшая на языке оригинала при жизни автора. Через несколько месяцев после ее выхода Хьюберт утонул при невыясненных обстоятельствах.
На каком основании мы относим автора этих путевых заметок, ведшихся на протяжении последнего года его жизни (23 апреля 1895 — 23 апреля 1896, Франция, Страна Басков, Британия, снова Франция, Швейцария, опять Франция, Монако, Италия, Испания, снова Британия… логика перемещений неисследима, цель их — за рамками повествования), к эстетам? — Из-за той внимательной, меланхоличной нежности, с которой он, «Шопен от литературы», как называет Крэкенторпа автор послесловия к книжечке, таинственный мистер Ибикус, всматривается в чувственно воспринимаемую поверхность мира, как чутко и осторожно прикасается к ней, как остро на нее реагирует, как важна ему красота и, еще того более — единственность, особенность видимого и слышимого, включая мимолетное, малейшие детали этой красоты, этого чуда существования.
Взгляд Крэкенторпа — подробный, точный, несомненно воспитанный старательным до тяжеловесности реализмом его родного XIX столетия (но также Бодлером, Рембо и Гюисмансом, реализм уже преодолевавшими), притом не только, даже, может быть, не столько литературой его, сколько живописью. В «Виньетках» два этих искусства сходятся, чтобы слиться до неразличимости, образовать новое, синтетическое искусство: работающее словами, но с живописной оптикой. Ему первостепенно важны цвет, свет, форма; наблюдаемые пейзажи он оценивает с помощью критериев, куда более применимых к изобразительному искусству: «Небо лиловое, нежнейшего оттенка, — описывает он свои нормандские впечатления, — тактичная безыскусность, изящно современная, по-женски деликатная; чрезмерно изощренная композиция из подстриженных дерев, прямоугольных садиков и крошечных аккуратных домишек с высокими крышами, розовыми фасадами <…> Никакого неряшливого избытка живописности, скорее элегантная сдержанность в деталях, свежая, кокетливая, почти щегольская».
Примерно так же Крэкенторп стремится соединить прозу и поэзию, слово и музыку, обращая большое внимание на фонетическую организацию, инструментовку текста: читающие по-английски свидетельствуют, что в оригинале этих записок «можно увидеть повторы слогов и согласных»1. Он тоже из числа преодолевавших реализм, практически уже преодолевших: реальность важна ему не сама по себе в своих (непостижимых, разумеется) закономерностях и резонах, но в том, что она делает с восприятием человека и что она для восприятия значит.
«О чем эта книга, пересказать невозможно», — заметил один из предыдущих ее рецензентов, Александр Чанцев2. Отчего же: она о событии восприятия, о соприкосновении восприятия с разными частями мира.
Кажется, будто Крэкенторп так захвачен наблюдаемым, что не идет вглубь — ему это не нужно, он не аналитик, он созерцатель, наблюдаемое так достаточно для него, что щедро-избыточно. Все видимое он ощупывает медленным-медленным взглядом, растягивающим время до бесконечности: «Синий лен колышется чувствительным морем; фиалки выглядывают из-под мха; под каждой изгородью пучками первоцвет, ручейки заливаются пронзительными благодарными трелями…».
Однако всмотримся — и станет понятно, что все сложнее. В самих его предпочтениях (он ведь описывает совсем не все подряд), в самом распределении его внимания можно усмотреть несомненное ценностное суждение. Нетрудно заметить, что городской жизни, вообще сделанному человеком он решительно предпочитает природу. Он не слишком высокого мнения о том, что люди в мире устроили. При разговоре о делах человеческих он (после нескольких живописных, красочных штрихов — совсем без этого для него невозможно: «Париж в октябре — сияющий белизной под холодными искристыми небесами; хрупкие коричневеющие листья дрожат на бульварах…») даже отступает от своей обычной меланхоличной созерцательности и начинает высказывать категоричные суждения. Он мечет молнии, как проповедник: «…показушный, обидчивый Париж, самодовольно потакающий праздношатающимся толпам и их однообразным вариациям розового, белого и голубого; вечно озабоченный саморекламой, уставший от очевидности своих пороков, всегда в погоне за понятной лишь ему модой и заигрывающий с космополитизмом, как кокетка». (Этически дурное, предосудительное, значит, уже потому таково, что не соответствует эстетическим принципам. Верное свидетельство неправедности — дурная эстетика.)
Да, эстеты заворожены поверхностью, этики идут вглубь, их занимают структуры и принципы — и не мира как такового, а человеческого поведения по отношению к нему; эстеты заняты сущим, этик озабочен должным. Но мы уже видели и увидим далее, что — как ни удивительно — это деление грубо вплоть до несправедливости.
1 Евгения Доброва. Дыхание воды Хьюберта Крэкенторпа // https://godliteratury.ru/articles/2024/12/01/dyhanie-vody-hiuberta-krekentorpa
2 Александр Чанцев. Хьюберт Крэкенторп: забытые реки // https://www.peremeny.ru/blog/28781
Имени Хьюберта Монтегю Крэкенторпа (1870–1896), «одного из “молодых трупов” викторианской литературы», основное число читающих по-русски с высокой вероятностью не слышало никогда (тем более, что это первый перевод его на наш язык), как, возможно, и волнующего названия эстетической группы, к которой он принадлежал (нет, это не самоназвание). Между тем у этой группы точно есть один участник, известный даже неспециалистам, — Обри Бердсли. К тому же сообществу художественной богемы принадлежали Эрнест Доусон, Лайонел Джонсон, Генри Харланд, Эрик Стенбок, и все они были в орбите влияния Оскара Уайльда, и многие — среди них и наш герой — участвовали в издании «Желтой книги», английского авангардного литературного журнала, выходившего ежеквартально в 1894–1897 годах и влиятельного настолько, что он дал название последнему десятилетию британского XIX века — «желтые девяностые»; и все они — кроме разве Харланда, дожившего до сорока четырех, — умерли, не достигнув тридцати (поэтому и «молодые трупы»). Крэкенторп, принадлежавший, как видим, к самой сердцевине литературной жизни своего времени, из всех его собратьев по группе известен, пожалуй, менее всего, и книга — скорее, книжечка, — которую теперь держит в руках русский читатель, — последняя, вышедшая на языке оригинала при жизни автора. Через несколько месяцев после ее выхода Хьюберт утонул при невыясненных обстоятельствах.
На каком основании мы относим автора этих путевых заметок, ведшихся на протяжении последнего года его жизни (23 апреля 1895 — 23 апреля 1896, Франция, Страна Басков, Британия, снова Франция, Швейцария, опять Франция, Монако, Италия, Испания, снова Британия… логика перемещений неисследима, цель их — за рамками повествования), к эстетам? — Из-за той внимательной, меланхоличной нежности, с которой он, «Шопен от литературы», как называет Крэкенторпа автор послесловия к книжечке, таинственный мистер Ибикус, всматривается в чувственно воспринимаемую поверхность мира, как чутко и осторожно прикасается к ней, как остро на нее реагирует, как важна ему красота и, еще того более — единственность, особенность видимого и слышимого, включая мимолетное, малейшие детали этой красоты, этого чуда существования.
Взгляд Крэкенторпа — подробный, точный, несомненно воспитанный старательным до тяжеловесности реализмом его родного XIX столетия (но также Бодлером, Рембо и Гюисмансом, реализм уже преодолевавшими), притом не только, даже, может быть, не столько литературой его, сколько живописью. В «Виньетках» два этих искусства сходятся, чтобы слиться до неразличимости, образовать новое, синтетическое искусство: работающее словами, но с живописной оптикой. Ему первостепенно важны цвет, свет, форма; наблюдаемые пейзажи он оценивает с помощью критериев, куда более применимых к изобразительному искусству: «Небо лиловое, нежнейшего оттенка, — описывает он свои нормандские впечатления, — тактичная безыскусность, изящно современная, по-женски деликатная; чрезмерно изощренная композиция из подстриженных дерев, прямоугольных садиков и крошечных аккуратных домишек с высокими крышами, розовыми фасадами <…> Никакого неряшливого избытка живописности, скорее элегантная сдержанность в деталях, свежая, кокетливая, почти щегольская».
Примерно так же Крэкенторп стремится соединить прозу и поэзию, слово и музыку, обращая большое внимание на фонетическую организацию, инструментовку текста: читающие по-английски свидетельствуют, что в оригинале этих записок «можно увидеть повторы слогов и согласных»1. Он тоже из числа преодолевавших реализм, практически уже преодолевших: реальность важна ему не сама по себе в своих (непостижимых, разумеется) закономерностях и резонах, но в том, что она делает с восприятием человека и что она для восприятия значит.
«О чем эта книга, пересказать невозможно», — заметил один из предыдущих ее рецензентов, Александр Чанцев2. Отчего же: она о событии восприятия, о соприкосновении восприятия с разными частями мира.
Кажется, будто Крэкенторп так захвачен наблюдаемым, что не идет вглубь — ему это не нужно, он не аналитик, он созерцатель, наблюдаемое так достаточно для него, что щедро-избыточно. Все видимое он ощупывает медленным-медленным взглядом, растягивающим время до бесконечности: «Синий лен колышется чувствительным морем; фиалки выглядывают из-под мха; под каждой изгородью пучками первоцвет, ручейки заливаются пронзительными благодарными трелями…».
Однако всмотримся — и станет понятно, что все сложнее. В самих его предпочтениях (он ведь описывает совсем не все подряд), в самом распределении его внимания можно усмотреть несомненное ценностное суждение. Нетрудно заметить, что городской жизни, вообще сделанному человеком он решительно предпочитает природу. Он не слишком высокого мнения о том, что люди в мире устроили. При разговоре о делах человеческих он (после нескольких живописных, красочных штрихов — совсем без этого для него невозможно: «Париж в октябре — сияющий белизной под холодными искристыми небесами; хрупкие коричневеющие листья дрожат на бульварах…») даже отступает от своей обычной меланхоличной созерцательности и начинает высказывать категоричные суждения. Он мечет молнии, как проповедник: «…показушный, обидчивый Париж, самодовольно потакающий праздношатающимся толпам и их однообразным вариациям розового, белого и голубого; вечно озабоченный саморекламой, уставший от очевидности своих пороков, всегда в погоне за понятной лишь ему модой и заигрывающий с космополитизмом, как кокетка». (Этически дурное, предосудительное, значит, уже потому таково, что не соответствует эстетическим принципам. Верное свидетельство неправедности — дурная эстетика.)
Да, эстеты заворожены поверхностью, этики идут вглубь, их занимают структуры и принципы — и не мира как такового, а человеческого поведения по отношению к нему; эстеты заняты сущим, этик озабочен должным. Но мы уже видели и увидим далее, что — как ни удивительно — это деление грубо вплоть до несправедливости.
1 Евгения Доброва. Дыхание воды Хьюберта Крэкенторпа // https://godliteratury.ru/articles/2024/12/01/dyhanie-vody-hiuberta-krekentorpa
2 Александр Чанцев. Хьюберт Крэкенторп: забытые реки // https://www.peremeny.ru/blog/28781
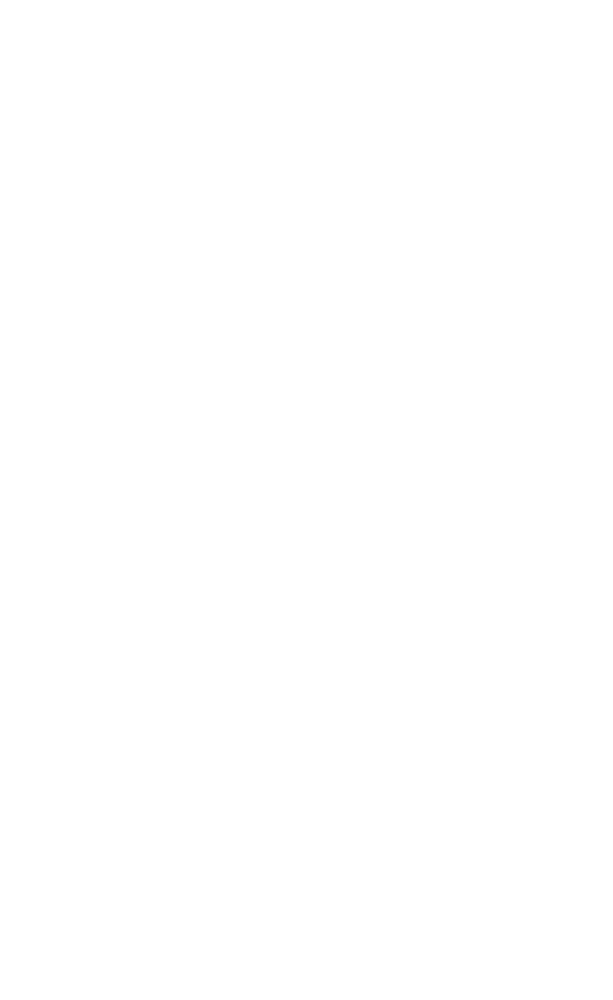
Фазиль Искандер. Дар самой жизни: размышления, записи, афоризмы. — М.: РИПОЛ классик, 2024.
В эту небольшую книжечку жена Фазиля Искандера, Антонина Искандер-Хлебникова, уже после смерти писателя включила его черновые, дневниковые — разве что не датированные — записи из рабочих тетрадей. Он вел их всю жизнь, собирая туда важные для себя мысли и формулировки, которые надеялся потом использовать. Часть записей он действительно использовал в художественных текстах, часть проговорил в интервью, но многое осталось невостребованным и увидело свет только сейчас. Записи размещены здесь в хронологической последовательности, без разбиения на тематические разделы, чтобы дать читателю чувство живого потока мысли.
Искандер — даже в черновиках — этик категорический, бескомпромиссный, настойчивый. И не только чистой волей случая записи его, составившие эту книгу, начинаются со слова «грех», — слова из религиозного лексикона.
«Грех — не думать».
Мысль для Искандера настолько в родстве с этикой, что, кажется (да и не кажется), это для него две стороны одного и того же — но стороны все-таки разные, потому что этическая сторона важнее, она решающая. Он вообще куда больше доверяет совести, чем мысли: «Как часто люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума»; мысль без совести для него по меньшей мере неполна, а то и просто некачественна: «Мудрость — это ум, настоянный на совести» (поэтому-то «ум может разрушать — мудрость никогда») и даже «быть честным умней, чем быть умным». Это же, кстати, делает в его глазах по определению неполноценным искусственный интеллект: «Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один ученый не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен. Только человеческий мозг может логизировать толчки совести».
В каком-то смысле он вообще только об этике и говорит; все остальное — средство для разговора об этом. «Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости». Он постоянно подчеркивает человекообразующую роль этического: «И что скрывать — совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неумолимое животное…» и даже: «Распавшийся целовек может восстать из распада, если в его душе сохранилась хоть одна святыня…».
Он настолько этик, что даже чуть ли не антиэстетик: «Вот человек с неприятной наружностью. Мы еще ничего не знаем о нем, но он своей наружностью уже настраивает нас против себя. Подлость эстетического восприятия».
Во всяком случае, эстетика для Искандера тоже определяется этикой — корни которой для него, по всей вероятности, сакральны: «Хорошая художественная литература — это вечный комментарий к Евангелию»; «художественное произведение есть воля к добру, выраженная пластическим способом. Не может быть произведение пластичным без воли к добру» (говорит он с толстовской категоричностью). Притом в культуру, в ее облагораживающее, спасающее, в конечном счете, душу и даже в некотором смысле защитное воздействие он, характерным для советских интеллигентов образом, очень верит: «…насколько легко ограбить, обмануть культурного человека в жизни, настолько трудней его ограбить в духовном отношении. Потеряв многое, почти все, культурный человек, по сравнению с обычным, крепче в сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И, многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать “Казаков” и “Войну и мир” Толстого».
Иногда думается, что и мир и человек в его глазах куда лучше, по крайней мере — конструктивнее, чем они есть. В конечном счете, он верит в человека (уж не идеализирует ли его?): «Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, — утверждает он на первой же странице, — возможности добра становятся беспредельными». Читатель, отравленный нашим временем, думает: такого не может быть, такого никогда не было и не будет. С другой стороны, совершенно очевидно, что у Искандера насчет человека нет никаких иллюзий. Человека в актуальном его состоянии он видит предельно жестко: «Таков закон черни: людям хочется, чтобы другие люди, способные возвыситься над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки», — и требования его к человеку очень высоки — до беспощадности. Эмпирические люди им не соответствуют. «Когда раб пытается быть мужественным, всегда получается нахальство. Когда раб пытается быть дружественным, всегда получается лакейство». (Всегда! Что же, он не оставлял человеку шанса быть другим? Считал его тотально определяемым некоторой внутренней сущностью, в данном случае — рабством? Понятно же, что речь идет о рабах не по социальному статусу…)
То, что хочется назвать идеализацией, относится тут скорее к человеку в принципе, к человеку как к замыслу, — который, скорее всего, действительно никогда не был осуществлен в полной мере.
Впрочем, Искандер сам прекрасно отдавал себе в этом отчет: «Идеал невозможен. Но возможны правильные шаги к идеалу. Шаг к идеалу и есть идеал».
Есть нечто, сближающее Искандера с его современником и ровесником Мерабом Мамардашвили — некоторая общая ценностная платформа; чувство принципиальной этичности мысли и непременной, человекообразующей необходимости постоянного, систематического внутреннего усилия. Все это вызывает — по крайней мере, у человека, воспитанного в тех же представлениях, — большое внутреннее согласие. А чтение этих записей — очень выпрямляющее. Даже когда ты не соглашаешься с автором.
В эту небольшую книжечку жена Фазиля Искандера, Антонина Искандер-Хлебникова, уже после смерти писателя включила его черновые, дневниковые — разве что не датированные — записи из рабочих тетрадей. Он вел их всю жизнь, собирая туда важные для себя мысли и формулировки, которые надеялся потом использовать. Часть записей он действительно использовал в художественных текстах, часть проговорил в интервью, но многое осталось невостребованным и увидело свет только сейчас. Записи размещены здесь в хронологической последовательности, без разбиения на тематические разделы, чтобы дать читателю чувство живого потока мысли.
Искандер — даже в черновиках — этик категорический, бескомпромиссный, настойчивый. И не только чистой волей случая записи его, составившие эту книгу, начинаются со слова «грех», — слова из религиозного лексикона.
«Грех — не думать».
Мысль для Искандера настолько в родстве с этикой, что, кажется (да и не кажется), это для него две стороны одного и того же — но стороны все-таки разные, потому что этическая сторона важнее, она решающая. Он вообще куда больше доверяет совести, чем мысли: «Как часто люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума»; мысль без совести для него по меньшей мере неполна, а то и просто некачественна: «Мудрость — это ум, настоянный на совести» (поэтому-то «ум может разрушать — мудрость никогда») и даже «быть честным умней, чем быть умным». Это же, кстати, делает в его глазах по определению неполноценным искусственный интеллект: «Говорят о бесконечных возможностях искусственного разума. Но ни один ученый не может даже заикнуться об искусственной совести. Из этого следует, что любой искусственный разум в главном ограничен. Только человеческий мозг может логизировать толчки совести».
В каком-то смысле он вообще только об этике и говорит; все остальное — средство для разговора об этом. «Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости». Он постоянно подчеркивает человекообразующую роль этического: «И что скрывать — совесть утомительна. Но отбросив совесть, человек превращается в неумолимое животное…» и даже: «Распавшийся целовек может восстать из распада, если в его душе сохранилась хоть одна святыня…».
Он настолько этик, что даже чуть ли не антиэстетик: «Вот человек с неприятной наружностью. Мы еще ничего не знаем о нем, но он своей наружностью уже настраивает нас против себя. Подлость эстетического восприятия».
Во всяком случае, эстетика для Искандера тоже определяется этикой — корни которой для него, по всей вероятности, сакральны: «Хорошая художественная литература — это вечный комментарий к Евангелию»; «художественное произведение есть воля к добру, выраженная пластическим способом. Не может быть произведение пластичным без воли к добру» (говорит он с толстовской категоричностью). Притом в культуру, в ее облагораживающее, спасающее, в конечном счете, душу и даже в некотором смысле защитное воздействие он, характерным для советских интеллигентов образом, очень верит: «…насколько легко ограбить, обмануть культурного человека в жизни, настолько трудней его ограбить в духовном отношении. Потеряв многое, почти все, культурный человек, по сравнению с обычным, крепче в сопротивлении жизненным обстоятельствам. Богатства его хранятся не в кубышке, а в банке мирового духа. И, многое потеряв, он может сказать себе и говорит себе: я ведь еще могу слушать Бетховена, перечитать “Казаков” и “Войну и мир” Толстого».
Иногда думается, что и мир и человек в его глазах куда лучше, по крайней мере — конструктивнее, чем они есть. В конечном счете, он верит в человека (уж не идеализирует ли его?): «Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, — утверждает он на первой же странице, — возможности добра становятся беспредельными». Читатель, отравленный нашим временем, думает: такого не может быть, такого никогда не было и не будет. С другой стороны, совершенно очевидно, что у Искандера насчет человека нет никаких иллюзий. Человека в актуальном его состоянии он видит предельно жестко: «Таков закон черни: людям хочется, чтобы другие люди, способные возвыситься над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки», — и требования его к человеку очень высоки — до беспощадности. Эмпирические люди им не соответствуют. «Когда раб пытается быть мужественным, всегда получается нахальство. Когда раб пытается быть дружественным, всегда получается лакейство». (Всегда! Что же, он не оставлял человеку шанса быть другим? Считал его тотально определяемым некоторой внутренней сущностью, в данном случае — рабством? Понятно же, что речь идет о рабах не по социальному статусу…)
То, что хочется назвать идеализацией, относится тут скорее к человеку в принципе, к человеку как к замыслу, — который, скорее всего, действительно никогда не был осуществлен в полной мере.
Впрочем, Искандер сам прекрасно отдавал себе в этом отчет: «Идеал невозможен. Но возможны правильные шаги к идеалу. Шаг к идеалу и есть идеал».
Есть нечто, сближающее Искандера с его современником и ровесником Мерабом Мамардашвили — некоторая общая ценностная платформа; чувство принципиальной этичности мысли и непременной, человекообразующей необходимости постоянного, систематического внутреннего усилия. Все это вызывает — по крайней мере, у человека, воспитанного в тех же представлениях, — большое внутреннее согласие. А чтение этих записей — очень выпрямляющее. Даже когда ты не соглашаешься с автором.
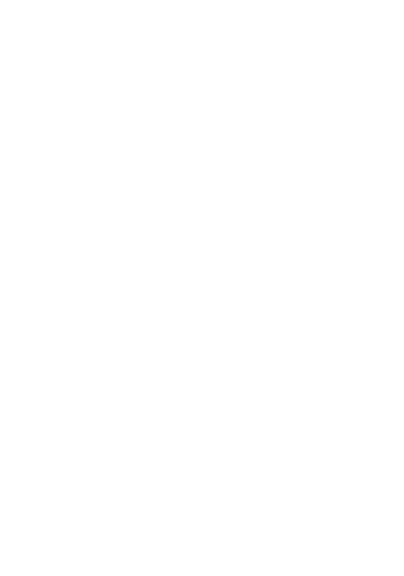
Александр Фролов. Интуитивные страницы. — М.: Флаги, 2024.
Четыре тетради, составившие книгу поэта и переводчика Александра Фролова: «морская», «медовая», «кофейная» и «кленовая» (названия разделам книги даны, по всей вероятности, по обложкам бумажных тетрадей, — из характера записей это различие не следует, хотя так и хочется спроецировать эти цвета и сопутствующие им ассоциации на текст и придумать, как они могут в нем выражаться; невозможно исключать, что и это входило в замысел автора) — по формальному статусу дневник, в основной своей части даже датированный, который автор вел с марта 2022 по декабрь 2023 года. С содержательным статусом сложнее — и по своему устройству из всех книг сегодняшнего обзора эта — самая сложная. В ней объединяются — и переходят друг в друга практически незаметно, без швов — повествования максимально разных типов: от вполне простодушной фиксации фактов повседневности, не указывающих, казалось бы, ни на что, кроме самих себя («Отбил ручку у зеленой кружки. Приснился коллега с бывшей работы. Лысый, с кольцом в ухе и накрашенными глазами»), хроники чтения и концентрированные, свернутые соображения о прочитанном («Дочитываю том Еремина. Будто беру высоту. Русский иностранный язык. Русский в русском: матрешка. Тексты-растения. Очень плотная поэзия. Архитектура, наука, природа, философия и др., пересекаясь. Монтаж, что мне близок». «В тетрадях Симоны Вейль. Фрагментарность: плазма дневника»), воспоминаний («В детстве теряешь ощущение времени, когда чем-то сильно увлечен, чувство глубины дня, и вот мама уже кричит, что пора домой»), разговора с любимой, ни разу не названной по имени, но на протяжении всего текста остающейся важнейшим, первым, иногда, может быть, единственным его адресатом («Приятно заваривать тебе чай», «Мы открываем друг друга десять лет. Никакой усталости. Неисчерпаемые рудники тайн») и черновых заметок для себя, смысл которых известен только самому автору («Комок. Хорошо в каком-то смысле»), — до антропологических суждений («Сознание человека не развивается, — только технологии, чаще военные») и сложнейшей поэтической прозы, медленной, созерцательной, пронизанной множеством ассоциативных связей, в полном объеме понятных, видимо, тоже только автору: «…и стекло время и камень, ты заносишь руку окружностью сферы Паскаля, разворачивая как ударение на мертвую гласную в имени Бога — единственном доказательстве его существования — впитавшую смех, перемалывающий ландшафт — клочья равнин, звенья блуждающих гор — ноль проходит сквозь ноль…».
В предисловии к записям Фролова Лиза Хереш называет их «письмом, родившимся в трещине социальной и гуманистической катастрофы», ставит их в контекст, способный показаться (невнимательному читателю) неожиданным: «Дневника конца света» Натальи Ключаревой и «Так мы учились говорить о смерти. Дневник 2022-2023 годов» Михаила Немцева. Если упомянутые авторы прямо и подробно говорят о своем проживании и понимании происходящего, то Фролов касается этого редко, предельно сдержанно, как будто мимоходом, и никогда не разворачивает своих заметок на соответствующие темы в основательные рассуждения, оставляя их в состоянии указаний («Асфальт черный, как и новости». Ставит катастрофические события как будто в один ряд с обыденными рутинными делами: «Сегодня ночью в Ростове упал первый беспилотник. (Надо не забыть разморозить холодильник)» — так и вспоминается Кафка: «Германия объявила России войну. После обеда школа плавания». Ростов-на-Дону — город, где живет автор. Беспилотник упал на его собственную жизнь).
Но ведь и он — о том же, только иначе.
Родившись — да, в трещине, это письмо возникает как противовес, противоход трещине, возвращаясь таким образом к выполнению исконной задачи письма, о которой в наши дни помнит куда больше поэзия, чем проза (еще и поэтому, кажется, дневник Фролова, написанный прозой, родствен скорее поэзии): магической задачи воздействия на структуры существования, исправления их. В ситуации, когда «смертью пропитано все», оно только и делает, что возражает смерти вопреки всем невозможностям. Самой связностью своего текста, бесшовностью переходов от сиюминутного к принципиальному, от бытового ко всевременному автор восстанавливает целостность ткани жизни, непоправимо, казалось бы, разорванную историческими процессами. Наборматывает ей эту целостность.
Дощупывается до предкатастрофической, предысторической, общей всем временам основы существования, поддерживает постоянный контакт с нею.
Да, еще: в отличие от дневников Ключаревой и Немцева (свидетельских, аналитических, не преследующих художественных целей), в этих записях очень важна эстетическая компонента. В значительной мере они — художественная лаборатория, рефлексия автора над собственной писательской практикой, нащупывание ее корней; и вообще вся книга в целом — акт прежде всего эстетический. И это тоже работа восстановления цельности, потому что художественность как таковая — прежде всего о ней. Работа исцеления.
Художественная компонента важна настолько, что Фролов — особенно с его постоянным, едва ли не самоценным (на самом деле нет) вниманием к повседневным фактам, с чуткостью к их мельчайшим волокнам — может показаться классическим эстетом. Но стоит всмотреться, и становится ясным, что такая модель текстообразующего поведения — чистейшая этика.
И если, скажем, Фазиль Искандер — этик универсального, то Фролов, скорее, этик исторического. И даже не просто этик — онтолог-практик. Онтопрактик. Он с самим бытием работает — притом именно вследствие своего принципиального, тонкого, чуткого эстетизма.
Таким образом он открывает в повседневной, сиюминутной, единственной человеческой жизни те самые «неисчерпаемые рудники тайн». Возвращает ей не только целостность, но и ценность. А с нею — и самому человеку.
Четыре тетради, составившие книгу поэта и переводчика Александра Фролова: «морская», «медовая», «кофейная» и «кленовая» (названия разделам книги даны, по всей вероятности, по обложкам бумажных тетрадей, — из характера записей это различие не следует, хотя так и хочется спроецировать эти цвета и сопутствующие им ассоциации на текст и придумать, как они могут в нем выражаться; невозможно исключать, что и это входило в замысел автора) — по формальному статусу дневник, в основной своей части даже датированный, который автор вел с марта 2022 по декабрь 2023 года. С содержательным статусом сложнее — и по своему устройству из всех книг сегодняшнего обзора эта — самая сложная. В ней объединяются — и переходят друг в друга практически незаметно, без швов — повествования максимально разных типов: от вполне простодушной фиксации фактов повседневности, не указывающих, казалось бы, ни на что, кроме самих себя («Отбил ручку у зеленой кружки. Приснился коллега с бывшей работы. Лысый, с кольцом в ухе и накрашенными глазами»), хроники чтения и концентрированные, свернутые соображения о прочитанном («Дочитываю том Еремина. Будто беру высоту. Русский иностранный язык. Русский в русском: матрешка. Тексты-растения. Очень плотная поэзия. Архитектура, наука, природа, философия и др., пересекаясь. Монтаж, что мне близок». «В тетрадях Симоны Вейль. Фрагментарность: плазма дневника»), воспоминаний («В детстве теряешь ощущение времени, когда чем-то сильно увлечен, чувство глубины дня, и вот мама уже кричит, что пора домой»), разговора с любимой, ни разу не названной по имени, но на протяжении всего текста остающейся важнейшим, первым, иногда, может быть, единственным его адресатом («Приятно заваривать тебе чай», «Мы открываем друг друга десять лет. Никакой усталости. Неисчерпаемые рудники тайн») и черновых заметок для себя, смысл которых известен только самому автору («Комок. Хорошо в каком-то смысле»), — до антропологических суждений («Сознание человека не развивается, — только технологии, чаще военные») и сложнейшей поэтической прозы, медленной, созерцательной, пронизанной множеством ассоциативных связей, в полном объеме понятных, видимо, тоже только автору: «…и стекло время и камень, ты заносишь руку окружностью сферы Паскаля, разворачивая как ударение на мертвую гласную в имени Бога — единственном доказательстве его существования — впитавшую смех, перемалывающий ландшафт — клочья равнин, звенья блуждающих гор — ноль проходит сквозь ноль…».
В предисловии к записям Фролова Лиза Хереш называет их «письмом, родившимся в трещине социальной и гуманистической катастрофы», ставит их в контекст, способный показаться (невнимательному читателю) неожиданным: «Дневника конца света» Натальи Ключаревой и «Так мы учились говорить о смерти. Дневник 2022-2023 годов» Михаила Немцева. Если упомянутые авторы прямо и подробно говорят о своем проживании и понимании происходящего, то Фролов касается этого редко, предельно сдержанно, как будто мимоходом, и никогда не разворачивает своих заметок на соответствующие темы в основательные рассуждения, оставляя их в состоянии указаний («Асфальт черный, как и новости». Ставит катастрофические события как будто в один ряд с обыденными рутинными делами: «Сегодня ночью в Ростове упал первый беспилотник. (Надо не забыть разморозить холодильник)» — так и вспоминается Кафка: «Германия объявила России войну. После обеда школа плавания». Ростов-на-Дону — город, где живет автор. Беспилотник упал на его собственную жизнь).
Но ведь и он — о том же, только иначе.
Родившись — да, в трещине, это письмо возникает как противовес, противоход трещине, возвращаясь таким образом к выполнению исконной задачи письма, о которой в наши дни помнит куда больше поэзия, чем проза (еще и поэтому, кажется, дневник Фролова, написанный прозой, родствен скорее поэзии): магической задачи воздействия на структуры существования, исправления их. В ситуации, когда «смертью пропитано все», оно только и делает, что возражает смерти вопреки всем невозможностям. Самой связностью своего текста, бесшовностью переходов от сиюминутного к принципиальному, от бытового ко всевременному автор восстанавливает целостность ткани жизни, непоправимо, казалось бы, разорванную историческими процессами. Наборматывает ей эту целостность.
Дощупывается до предкатастрофической, предысторической, общей всем временам основы существования, поддерживает постоянный контакт с нею.
Да, еще: в отличие от дневников Ключаревой и Немцева (свидетельских, аналитических, не преследующих художественных целей), в этих записях очень важна эстетическая компонента. В значительной мере они — художественная лаборатория, рефлексия автора над собственной писательской практикой, нащупывание ее корней; и вообще вся книга в целом — акт прежде всего эстетический. И это тоже работа восстановления цельности, потому что художественность как таковая — прежде всего о ней. Работа исцеления.
Художественная компонента важна настолько, что Фролов — особенно с его постоянным, едва ли не самоценным (на самом деле нет) вниманием к повседневным фактам, с чуткостью к их мельчайшим волокнам — может показаться классическим эстетом. Но стоит всмотреться, и становится ясным, что такая модель текстообразующего поведения — чистейшая этика.
И если, скажем, Фазиль Искандер — этик универсального, то Фролов, скорее, этик исторического. И даже не просто этик — онтолог-практик. Онтопрактик. Он с самим бытием работает — притом именно вследствие своего принципиального, тонкого, чуткого эстетизма.
Таким образом он открывает в повседневной, сиюминутной, единственной человеческой жизни те самые «неисчерпаемые рудники тайн». Возвращает ей не только целостность, но и ценность. А с нею — и самому человеку.