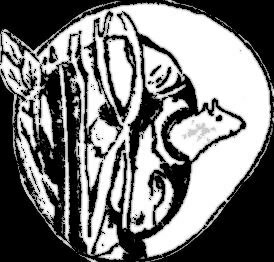Ольга Балла-Гертман
журналист, литературный критик, эссеист.
Родилась в 1965 году в Москве, окончила исторический факультет Московского педагогического университета.
Зав. отделом критики и библиографии журнала "Знамя", зав. отделом философии и культурологии журнала "Знание - Сила".
Родилась в 1965 году в Москве, окончила исторический факультет Московского педагогического университета.
Зав. отделом критики и библиографии журнала "Знамя", зав. отделом философии и культурологии журнала "Знание - Сила".
Это вы выбрали убивать
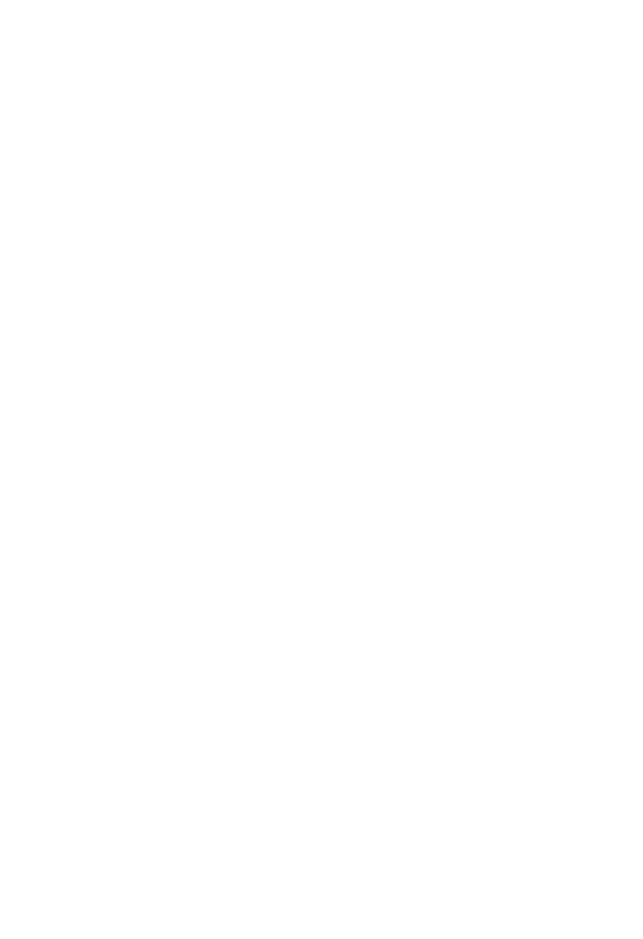
Илья Данишевский. Дамоклово техно. — Freedom letters, 2025.
Новейший роман Ильи Данишевского весь, целиком может быть назван свидетельством ныне переживаемой катастрофы и реакцией на неё — и не только (и даже не в первую очередь) потому, что биографические обстоятельства главного героя романа, Макса напрямую определяются исторической ситуацией: он — русский релокант в Германии. Формально Макс живёт там в арт-резиденции как художник на стипендию, данную ему всего-то на два месяца, по существу же — потому, что не может принять происходящего в нашем отечестве, о чём говорится неоднократно.
При этом от чего роман точно далёк — так это от того, с чем едва ли не автоматически связывается представление о реакции: от непосредственности (а от чего далёк ещё более, так это от морализаторства, вообще от морали и пуще того — от поиска утешений и конструктивных выходов из переживаемых обстоятельств. Первое автору глубоко чуждо, второе, по всей видимости, представляется ему по меньшей мере преждевременным). Текст сложно выстроен, тщательно продуман, и опосредованность тут многоступенчатая.
В самом общем виде, строение у романа трёхуровневое: во-первых, основная линия, большая история — Макса и предмета его гомоэротической любви Феликса (который в конечном счёте оборачивается совсем даже не человеком, а смертоносным персонажем компьютерной игры с нежным именем Котик-с-Кармашками, Покеткэт, убивающим совершенно реально, если в мире этого романа в принципе возможно говорить о реальности); во-вторых — время от времени прерывающие эту основную линию вставные новеллы — никак не связанные ни с нею, ни друг с другом (и все герои, и даже нечеловеческие персонажи — как, например, «худые люди», которых видит герой одноименной главы Натан, — при всём своём изрядном страхопорождающем потенциале, который бы использовать да использовать, так и остаются в пределах соответствующих историй) и объединённые только слиянием в них во всех Эроса и Танатоса, скрученностью их в один неразвязываемый узел; в-третьих — истории-сказки, которые рассказывают друг другу герои историй обоих типов (такова, например, сказка о Бумажной Грешнице, которая раз в год выбирала одного ребёнка в сиротском приюте и уводила в небытие, и это далеко не самое чудовищное из рассказанного. То ли дело, допустим, «вдевание ключа в вырезанный шурупом глаз несовершеннолетнего». А ведь далеко не самое страшное и это…).
Продуманности текста ни в коей мере не противоречит старательное нагромождение автором разнообразных вариантов ужасного, отвратительного, невместимого разумом и их комбинаций (достаточно сказать, что одна из основных тематических линий романа, на которой держится вообще всё в историях всех трёх уровней, — мучение и убийство детей). А уж нагромождены они так, что это требует от реципиента, к эстетике такого рода не расположенного, известного терпения, а то и смелости; защитные механизмы так и норовят вытолкнуть читательское сознание из текста и окутать его той или иной уютной иллюзией. (Даже такой опытный читатель, как Дмитрий Волчек, интервьюируя автора, признался ему, что роман в его глазах выглядит «бесконечная паническая атака»1, с чем Данишевский, впрочем, не согласился.) Это скопление страшного и тёмного можно было бы назвать избыточным, когда бы не было очевидно, что за ним стоит не сиюминутная прихоть или совокупность таковых, но целая система эстетических принципов, успевшая сложиться — насколько можно судить, зная предыдущие тексты Данишевского, — задолго до «Дамоклова техно» и даже до той катастрофы, реакцию на которую оно собою, несомненно, представляет. Реакцией на мучительность человеческого существования, нарочитым и планомерным срыванием, в ответ этой мучительности, защитных механизмов — вместо куда более типичного для художественной словесности всех времён их культивирования — тексты Данишевского были и прежде, но в новейшем его романе эти тенденции доведены, пожалуй, до некоторого предела (по крайней мере, до тех пор, пока автор не пошёл в своей радикальности ещё далее, — чего вполне возможно ожидать).
«Дамоклово техно», написанное в 2023–2024 годах, — прямое следствие той ситуации, что разум с ныне происходящим не справляется (а когда разуму кажется, что это не так, он строит огрубляющие, спрямляющие схемы, выстраивание и отстаивание которых как раз верно свидетельствует о том, что ни с чем он на самом деле не справляется). Автор романа — из числа признающих тот факт, что издавна заготовленные, хорошо обжитые матрицы в последние три года обнаруживают полную свою несостоятельность, и им приходится (хочется всё-таки надеяться, на время) уступить место — в том числе и в литературе — иным способам обработки реальности. Что же это за способы?
Первое, что идёт на ум в качестве ответа, — мышление мифологическое, архаичное (и уж точно дохристианское: мы удивительным образом не находим в романе ни малейших следов христианства и христианской культуры, как будто человечество совершенно миновало эту стадию своего становления или, что вернее, не заметило её. Такое устройство текста вполне может быть прочитано как крайне жёсткое суждение само по себе: описываемый автором мир уроков христианства не усвоил, всё, идущее от христианства с его отношением к человеку и к жизни, слетело, как хрупкая оболочка, и на поверхность вылезла и торжествует там тёмная страшная хтоника). Действительно, мифологических элементов в «Дамокловом техно» множество (начиная уже с самого названия), а также родственных им, напрямую от них происходящих элементов сказочных. Однако что-то всё-таки мешает отождествить художественное мышление Данишевского с мифологическим: это — отсутствие в изображаемом им мире базовых для мифа структур, коренных оппозиций (а также — иерархической организации мироздания, его ценностной неоднородности, внятно выраженных верха и низа). Некоторые оппозиции как-то ещё сохраняются, жизнь и смерть друг другу как будто противопоставлены, но при внимательном всматривании оказывается, что на самом деле они тут не только не противоположны друг другу, а тяготеют к слиянию, и даже так: смерть, включая жестокую, насильственную и, так сказать, ведущие к ней практики в этом мире оказываются как бы наивысшей точкой витального напряжения, в частности (даже в особенности) именно с ними связан максимум напряжения эротического. Эрос и Танатос тут — даже не два полюса чего-то одного, а просто одна и та же сила, облики которой с трудом, если вообще, отличимы друг от друга: Эрос-Танатос и даже Эростанатос. Но вот чего тут точно нет — это неминуемых, казалось бы, для всякого мифологического мышления оппозиций (и, соответственно, соперничества) добра и зла, света и тьмы. Вопрос о различении добра и зла тут вообще не стоит (хотя некоторые следы этой коренной оппозиции рассмотреть всё-таки возможно: любовь тут нечто близкое к добру и вызывает у героев по большей части положительные эмоции, разлука и утрата — нечто явно близкое к злу, поскольку доставляет эмоции отрицательные, но не сказать, чтобы это внятно структурировало романное пространство. Структурируют его какие-то иные силы), свет мягко сливается с торжествующей тьмой и в конце концов поглощается ею. То, что простодушный внешний наблюдатель не в силах назвать иначе как злом, — обходясь без всякого добра, заливает всё видимое глазу пространство.
Мышление же, лежащее в основе этого текста, стоит, думается, признать скорее сновидческим. И не только потому, что значительные части происходящего являются героям во снах, но потому, что как сновидение устроен весь роман в целом (сначала можно подумать, что в тексте два плана — реальный, связанный со всем известной, как бы самоочевидной эмпирической реальностью, и, так сказать, трансреальный, где происходят всяческие чудеса и ужасы, что два этих плана переходят друг в друга почти незаметно, причём знать, какой из них более настоящий, всё невозможнее и невозможнее, пока наконец, к заключительным страницам романа, читатель не убеждается в том, что, конечно же, второй.
(Сон не знает оппозиций — или, вернее, они у него собственные (ну например: моё — чужое; приятное — неприятное, страшное — нестрашное, доступное — недоступное, волнующее — безразличное, притяжение — отталкивание). Сон соединяет несоединимое. Сон выводит на поверхность то, чего сознание с его рациональными установками и защитными механизмами туда не пускает. Сон, освобождая хоть как-то от внутренних неразрешимых напряжений, исполняет желания, включая те из них, о которых наяву и заикаться не станешь. Сон откровенен максимально, что бы сознание с его нормами и правилами об этом ни думало. Сон не озабочен ценностями — заботы у него другие, более глубокие, в каком-то смысле докультурные. Сон кошмарен, если психосоматический организм сновидца неблагополучен. Это в точности то, что делает с реальностью, и с внешней и с внутренней, роман Данишевского.
«Дамоклово техно» возможно воспринять как один из наиболее откровенных, ничем не маскируемых, никакой логикой не спрямляемых кошмарных снов, приснившихся — о, не одному только автору! в снах, как давно известно, выговаривается коллективное бессознательное, — русской культуре в условиях событий, разодравших и поныне раздирающих прежний мир на кровавые клочья: именно это и происходит в каждом из сюжетов этого многосюжетного, многоуровневого сновидения.
Вторая формообразующая матрица этого романа — компьютерная игра (возможно, тоже родственная сновидению), и даже вполне определённая игра: «Fear and Hunger», «Страх и голод». В честь неё названы главы, относящиеся к основной линии — Макса и Феликса: «Кармашки Страха и Голода». Кармашки — это от Котика, а сюжет игры сам автор объясняет так: «Она про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра земли, из которой нет выхода. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные противозаконные вещи. Это такое оккультное средневековое фэнтези»2. Там же автор говорит, что каждая из глав соответствует ещё и одной из карт Таро, но этого уже, как, вероятно, и многого другого, пишущей эти строки опознать не удалось.
Важно заметить ещё вот что: зло, которое на всём протяжении этого сна прекрасно обходится без всякого добра, — по своему существу не социально. В этом ничего не меняет ни то, что, как утверждает сам автор в одном из интервью, «в основном это про то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, вот эту рефлексию про выбор меньшего зла»3, ни появляющиеся в тексте время от времени публицистические вставки (честно сказать, они кажутся даже искусственными, не столько выросшими из существа текста, сколько вложенными извне, словно автор напоминает себе и нам, ради чего, по идее, он это всё-таки пишет). Зло практически целиком антропологично, оно растёт из существа человека, едва ли контролируемого им самим, в каких бы социальных координатах этот человек ни оказывался. Обратим внимание на то, что один из самых чудовищных героев романа — или уж самый, — Феликс, он же Покеткэт, в конце книги из чистого удовольствия от процесса отрезающий девочке голову, а потом растерзывающий её тело, и точно не впервые в жизни, — вообще немец, гражданин Германии и не имеет никакого отношения к тем событиям, с которыми и нам и автору, и небезосновательно, так и хочется связывать всё рассказанное.
«Это вы выбрали убивать». (Говорит Покеткэт взаимно влюблённому в него Максу прежде, чем, вложив ему в руку нож и подставив под него собственную шею, принудит Макса самому стать убийцей.) «Это я принимаю ваши идентичности убийц».
История с политикой — прочитывается в тексте — глубочайше вторичны. Дело в самом человеке, в принципиальной (возможно, и безнадёжной) повреждённости его природы.
«…и, надеюсь, ты понимаешь, что на свете нет хороших детей». (Продолжает Покеткэт, уже после того, как любимый перерезал ему, бессмертному, горло, заливая собственной кровью ему глаза.) «И именно тогда появляюсь я и лью в их глаза кровь, показываю им во снах чудовищное будущее».
Отсутствие же морализирующих установок, демонстрации утешающих перспектив, стремления показать что-нибудь вроде светлой стороны бытия и положительных примеров, как ни странно, идёт скорее на пользу тексту: тем более — при всей своей невыносимости, благодаря своей невыносимости — он получается честным.
1 На сайте литературной премии «Дар»:
https://darprize.com/2025/01/27/kto-ubivaet-detej-ilya-danishevskij-o-knige-damoklovo-tehno/
2 Там же.
3 Там же.
Новейший роман Ильи Данишевского весь, целиком может быть назван свидетельством ныне переживаемой катастрофы и реакцией на неё — и не только (и даже не в первую очередь) потому, что биографические обстоятельства главного героя романа, Макса напрямую определяются исторической ситуацией: он — русский релокант в Германии. Формально Макс живёт там в арт-резиденции как художник на стипендию, данную ему всего-то на два месяца, по существу же — потому, что не может принять происходящего в нашем отечестве, о чём говорится неоднократно.
При этом от чего роман точно далёк — так это от того, с чем едва ли не автоматически связывается представление о реакции: от непосредственности (а от чего далёк ещё более, так это от морализаторства, вообще от морали и пуще того — от поиска утешений и конструктивных выходов из переживаемых обстоятельств. Первое автору глубоко чуждо, второе, по всей видимости, представляется ему по меньшей мере преждевременным). Текст сложно выстроен, тщательно продуман, и опосредованность тут многоступенчатая.
В самом общем виде, строение у романа трёхуровневое: во-первых, основная линия, большая история — Макса и предмета его гомоэротической любви Феликса (который в конечном счёте оборачивается совсем даже не человеком, а смертоносным персонажем компьютерной игры с нежным именем Котик-с-Кармашками, Покеткэт, убивающим совершенно реально, если в мире этого романа в принципе возможно говорить о реальности); во-вторых — время от времени прерывающие эту основную линию вставные новеллы — никак не связанные ни с нею, ни друг с другом (и все герои, и даже нечеловеческие персонажи — как, например, «худые люди», которых видит герой одноименной главы Натан, — при всём своём изрядном страхопорождающем потенциале, который бы использовать да использовать, так и остаются в пределах соответствующих историй) и объединённые только слиянием в них во всех Эроса и Танатоса, скрученностью их в один неразвязываемый узел; в-третьих — истории-сказки, которые рассказывают друг другу герои историй обоих типов (такова, например, сказка о Бумажной Грешнице, которая раз в год выбирала одного ребёнка в сиротском приюте и уводила в небытие, и это далеко не самое чудовищное из рассказанного. То ли дело, допустим, «вдевание ключа в вырезанный шурупом глаз несовершеннолетнего». А ведь далеко не самое страшное и это…).
Продуманности текста ни в коей мере не противоречит старательное нагромождение автором разнообразных вариантов ужасного, отвратительного, невместимого разумом и их комбинаций (достаточно сказать, что одна из основных тематических линий романа, на которой держится вообще всё в историях всех трёх уровней, — мучение и убийство детей). А уж нагромождены они так, что это требует от реципиента, к эстетике такого рода не расположенного, известного терпения, а то и смелости; защитные механизмы так и норовят вытолкнуть читательское сознание из текста и окутать его той или иной уютной иллюзией. (Даже такой опытный читатель, как Дмитрий Волчек, интервьюируя автора, признался ему, что роман в его глазах выглядит «бесконечная паническая атака»1, с чем Данишевский, впрочем, не согласился.) Это скопление страшного и тёмного можно было бы назвать избыточным, когда бы не было очевидно, что за ним стоит не сиюминутная прихоть или совокупность таковых, но целая система эстетических принципов, успевшая сложиться — насколько можно судить, зная предыдущие тексты Данишевского, — задолго до «Дамоклова техно» и даже до той катастрофы, реакцию на которую оно собою, несомненно, представляет. Реакцией на мучительность человеческого существования, нарочитым и планомерным срыванием, в ответ этой мучительности, защитных механизмов — вместо куда более типичного для художественной словесности всех времён их культивирования — тексты Данишевского были и прежде, но в новейшем его романе эти тенденции доведены, пожалуй, до некоторого предела (по крайней мере, до тех пор, пока автор не пошёл в своей радикальности ещё далее, — чего вполне возможно ожидать).
«Дамоклово техно», написанное в 2023–2024 годах, — прямое следствие той ситуации, что разум с ныне происходящим не справляется (а когда разуму кажется, что это не так, он строит огрубляющие, спрямляющие схемы, выстраивание и отстаивание которых как раз верно свидетельствует о том, что ни с чем он на самом деле не справляется). Автор романа — из числа признающих тот факт, что издавна заготовленные, хорошо обжитые матрицы в последние три года обнаруживают полную свою несостоятельность, и им приходится (хочется всё-таки надеяться, на время) уступить место — в том числе и в литературе — иным способам обработки реальности. Что же это за способы?
Первое, что идёт на ум в качестве ответа, — мышление мифологическое, архаичное (и уж точно дохристианское: мы удивительным образом не находим в романе ни малейших следов христианства и христианской культуры, как будто человечество совершенно миновало эту стадию своего становления или, что вернее, не заметило её. Такое устройство текста вполне может быть прочитано как крайне жёсткое суждение само по себе: описываемый автором мир уроков христианства не усвоил, всё, идущее от христианства с его отношением к человеку и к жизни, слетело, как хрупкая оболочка, и на поверхность вылезла и торжествует там тёмная страшная хтоника). Действительно, мифологических элементов в «Дамокловом техно» множество (начиная уже с самого названия), а также родственных им, напрямую от них происходящих элементов сказочных. Однако что-то всё-таки мешает отождествить художественное мышление Данишевского с мифологическим: это — отсутствие в изображаемом им мире базовых для мифа структур, коренных оппозиций (а также — иерархической организации мироздания, его ценностной неоднородности, внятно выраженных верха и низа). Некоторые оппозиции как-то ещё сохраняются, жизнь и смерть друг другу как будто противопоставлены, но при внимательном всматривании оказывается, что на самом деле они тут не только не противоположны друг другу, а тяготеют к слиянию, и даже так: смерть, включая жестокую, насильственную и, так сказать, ведущие к ней практики в этом мире оказываются как бы наивысшей точкой витального напряжения, в частности (даже в особенности) именно с ними связан максимум напряжения эротического. Эрос и Танатос тут — даже не два полюса чего-то одного, а просто одна и та же сила, облики которой с трудом, если вообще, отличимы друг от друга: Эрос-Танатос и даже Эростанатос. Но вот чего тут точно нет — это неминуемых, казалось бы, для всякого мифологического мышления оппозиций (и, соответственно, соперничества) добра и зла, света и тьмы. Вопрос о различении добра и зла тут вообще не стоит (хотя некоторые следы этой коренной оппозиции рассмотреть всё-таки возможно: любовь тут нечто близкое к добру и вызывает у героев по большей части положительные эмоции, разлука и утрата — нечто явно близкое к злу, поскольку доставляет эмоции отрицательные, но не сказать, чтобы это внятно структурировало романное пространство. Структурируют его какие-то иные силы), свет мягко сливается с торжествующей тьмой и в конце концов поглощается ею. То, что простодушный внешний наблюдатель не в силах назвать иначе как злом, — обходясь без всякого добра, заливает всё видимое глазу пространство.
Мышление же, лежащее в основе этого текста, стоит, думается, признать скорее сновидческим. И не только потому, что значительные части происходящего являются героям во снах, но потому, что как сновидение устроен весь роман в целом (сначала можно подумать, что в тексте два плана — реальный, связанный со всем известной, как бы самоочевидной эмпирической реальностью, и, так сказать, трансреальный, где происходят всяческие чудеса и ужасы, что два этих плана переходят друг в друга почти незаметно, причём знать, какой из них более настоящий, всё невозможнее и невозможнее, пока наконец, к заключительным страницам романа, читатель не убеждается в том, что, конечно же, второй.
(Сон не знает оппозиций — или, вернее, они у него собственные (ну например: моё — чужое; приятное — неприятное, страшное — нестрашное, доступное — недоступное, волнующее — безразличное, притяжение — отталкивание). Сон соединяет несоединимое. Сон выводит на поверхность то, чего сознание с его рациональными установками и защитными механизмами туда не пускает. Сон, освобождая хоть как-то от внутренних неразрешимых напряжений, исполняет желания, включая те из них, о которых наяву и заикаться не станешь. Сон откровенен максимально, что бы сознание с его нормами и правилами об этом ни думало. Сон не озабочен ценностями — заботы у него другие, более глубокие, в каком-то смысле докультурные. Сон кошмарен, если психосоматический организм сновидца неблагополучен. Это в точности то, что делает с реальностью, и с внешней и с внутренней, роман Данишевского.
«Дамоклово техно» возможно воспринять как один из наиболее откровенных, ничем не маскируемых, никакой логикой не спрямляемых кошмарных снов, приснившихся — о, не одному только автору! в снах, как давно известно, выговаривается коллективное бессознательное, — русской культуре в условиях событий, разодравших и поныне раздирающих прежний мир на кровавые клочья: именно это и происходит в каждом из сюжетов этого многосюжетного, многоуровневого сновидения.
Вторая формообразующая матрица этого романа — компьютерная игра (возможно, тоже родственная сновидению), и даже вполне определённая игра: «Fear and Hunger», «Страх и голод». В честь неё названы главы, относящиеся к основной линии — Макса и Феликса: «Кармашки Страха и Голода». Кармашки — это от Котика, а сюжет игры сам автор объясняет так: «Она про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра земли, из которой нет выхода. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные противозаконные вещи. Это такое оккультное средневековое фэнтези»2. Там же автор говорит, что каждая из глав соответствует ещё и одной из карт Таро, но этого уже, как, вероятно, и многого другого, пишущей эти строки опознать не удалось.
Важно заметить ещё вот что: зло, которое на всём протяжении этого сна прекрасно обходится без всякого добра, — по своему существу не социально. В этом ничего не меняет ни то, что, как утверждает сам автор в одном из интервью, «в основном это про то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, вот эту рефлексию про выбор меньшего зла»3, ни появляющиеся в тексте время от времени публицистические вставки (честно сказать, они кажутся даже искусственными, не столько выросшими из существа текста, сколько вложенными извне, словно автор напоминает себе и нам, ради чего, по идее, он это всё-таки пишет). Зло практически целиком антропологично, оно растёт из существа человека, едва ли контролируемого им самим, в каких бы социальных координатах этот человек ни оказывался. Обратим внимание на то, что один из самых чудовищных героев романа — или уж самый, — Феликс, он же Покеткэт, в конце книги из чистого удовольствия от процесса отрезающий девочке голову, а потом растерзывающий её тело, и точно не впервые в жизни, — вообще немец, гражданин Германии и не имеет никакого отношения к тем событиям, с которыми и нам и автору, и небезосновательно, так и хочется связывать всё рассказанное.
«Это вы выбрали убивать». (Говорит Покеткэт взаимно влюблённому в него Максу прежде, чем, вложив ему в руку нож и подставив под него собственную шею, принудит Макса самому стать убийцей.) «Это я принимаю ваши идентичности убийц».
История с политикой — прочитывается в тексте — глубочайше вторичны. Дело в самом человеке, в принципиальной (возможно, и безнадёжной) повреждённости его природы.
«…и, надеюсь, ты понимаешь, что на свете нет хороших детей». (Продолжает Покеткэт, уже после того, как любимый перерезал ему, бессмертному, горло, заливая собственной кровью ему глаза.) «И именно тогда появляюсь я и лью в их глаза кровь, показываю им во снах чудовищное будущее».
Отсутствие же морализирующих установок, демонстрации утешающих перспектив, стремления показать что-нибудь вроде светлой стороны бытия и положительных примеров, как ни странно, идёт скорее на пользу тексту: тем более — при всей своей невыносимости, благодаря своей невыносимости — он получается честным.
1 На сайте литературной премии «Дар»:
https://darprize.com/2025/01/27/kto-ubivaet-detej-ilya-danishevskij-o-knige-damoklovo-tehno/
2 Там же.
3 Там же.