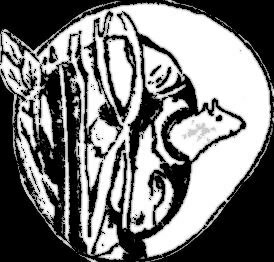Кирилл Чайкин
Родился в 1999 году в Воронеже.
Живёт в Санкт-Петербурге.
Писатель, независимый исследователь.
Публиковал тексты в сетевых журналах и в журнале поэзии «Воздух».
Живёт в Санкт-Петербурге.
Писатель, независимый исследователь.
Публиковал тексты в сетевых журналах и в журнале поэзии «Воздух».
Боги и игральные карты. Заметка о странной литературе и литературе со странностями
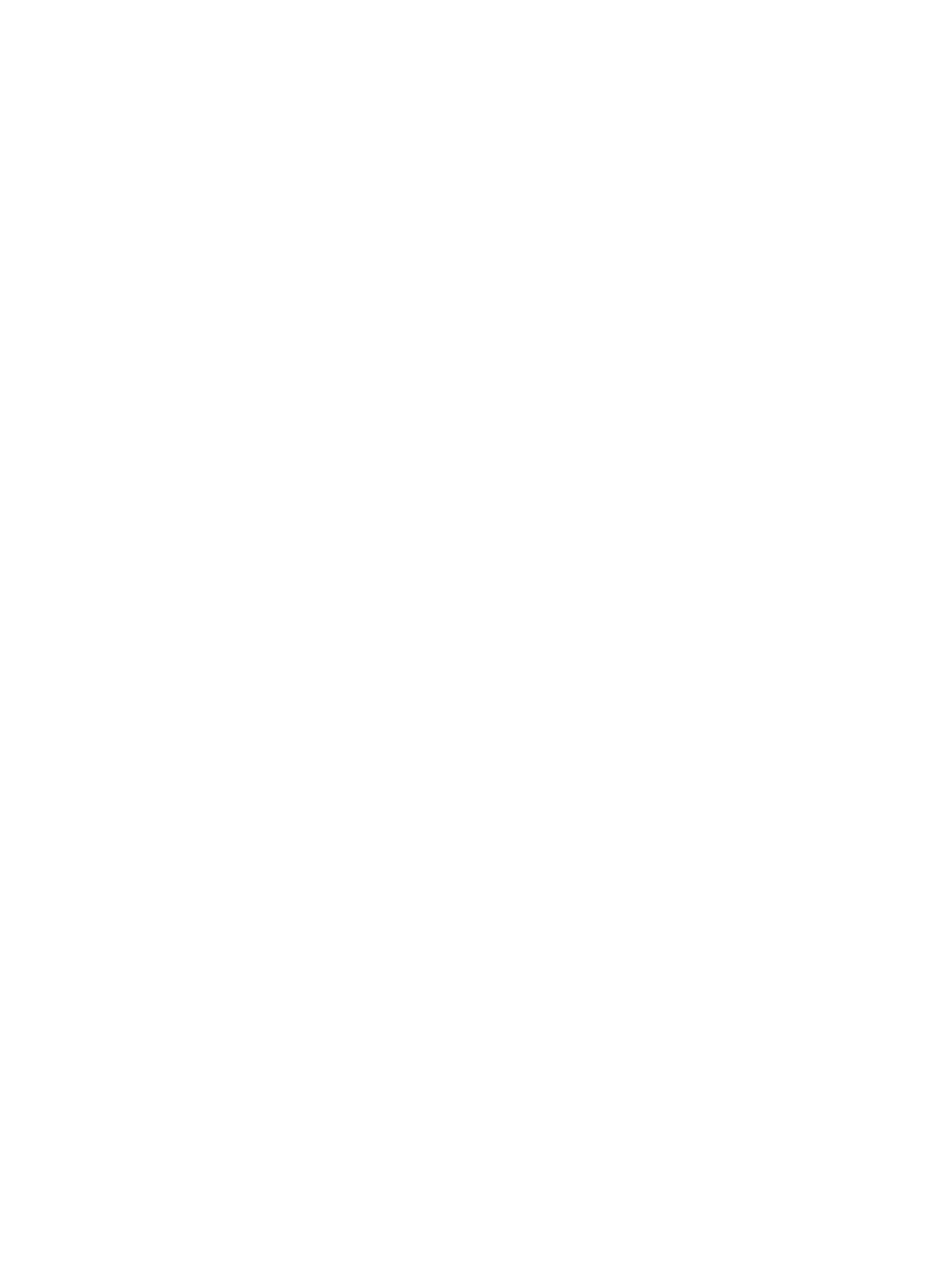
Какое-то значительное время назад в интернет-журнале «ПИВО» (Последний Исторический Вопрос Общества), который был основан автором сей заметки, — Кириллом Чайкиным и его приятелем, чернозёмным поэтом Володей Ворониным, — появилась моя небольшая статья: «Утопический ингуманизм». С той поры Земля успела сделать чуть больше тысячи оборотов вокруг своей оси, общество стало более, так сказать, ингуманным, а «ПИВО» закончилось.
Да и статья, будем откровенны, не блестала. В те времена меня интересовал вопрос радикальной инаковости, непохожести, парадигмальные сдвиги в нашем внутреннем чувстве сознания времени. В тексте я попытался вообразить себе ингуманистический вариант воплощения утопических идей модерна — пессимистическую картину туманной неопределённости человеческого общества, его тотальную рассубъективацию и текучие общественные отношения.
Между тем вопрос радикальной инаковости (даже если мы не затрагивает достаточно специфический гуманитарный срез «тёмного поворота») — важная часть современного инновативного искусства, в особенности — литературы.
Литературный способ мышления склонен к кодификациям, вырывающим мысленные акты из непосредственной власти языка. Что имеется ввиду: тюрьма мышления, идентификация которого напрямую связана с языком, изначально не предполагает определённого выхода за его пределы. Образуется замкнутый круг. Разрыв круга создаёт двоякую возможность.
Новые способы реализации “большого проекта литературы” зачастую лишь сообщают нам состояние литературы прошлых лет, уподобляясь рисункам на стенах тюремных камер, узники которых — писатели.
Помню, в сборнике статей Андрея Левкина «Искусство прозы, а заодно и поэзии» есть прекрасный фрагмент с описанием представителя литературы авангарда. Авангардист склонен (вообще, это довольно расхожий троп) изобретать довольно инклюзивную метафору письма, реализовывать эту метафору в своих текстах; теперь — это его главнейшая опора, к которой он привязан. Обойдём стороной подобные профессиональные неудачи.
Вообще, речь не просто так зашла о странной литературе (или литературе со странностями). Под «странным» здесь подразумевается даже не обязательно weird-литература. Мне, прежде всего, интересна литература, основания которой засыпаны вулканическим пеплом и пылью времени, которая, тем не менее, расцветает в органических для неё формах — безкорневая система формульных решений письма.
Переключим оптику: Кривулин, Шварц, Миронов, Стратановский — когорта петербургского андерграунда— мыслятся в качестве переброшенного из серебряного века мостика. Это — попытка вернуть естественное развитие русскоязычной поэзии, прерванной официозным неоклассицизмом, перекрывшим когда-то воздух. Разумеется, гетероморфные поэтические эксперименты имеют мало общего с современными визуальными решениями поэзии и прозы (их разделение на сегодняшний день — исключительно номинальное). Плоскость фонетического стала, простите, визуальным пейзажем. Можно найти много объяснений подобному (поэтикой Драгомощенко, связью между лианозовцами — через конкретистов — с концептуалистами, или филологической школой вместе с метареалистами).
Получается забавное: современный способ письма связывается не столько с наследованием определённой литературной традиции, сколько с её институциональной критикой и преодолением (об этом славно писал Михаил Эпштейн в книге «Из хаоса»). Современные консервативные литераторы часто свидетельствуют о болезни литературы, соотнося её нездоровое состояние с засильем авангарда. Если исключить достаточно конкретный набор её язв (в виде консервативных литераторов), то её болезни будет невозможно отличить от её общего здоровья.
Я не хочу сказать, что в литературе на сегодняшний день отсутствует элемент преемственности. В большей мере меня заботят новые онтологические способы коллажирования литературы: каждый новый модус литературы, каждый новый обнаруженный регистр письма, каждый новый способ необычайной организации синтаксиса порождает в небытии литературы её новые способы существования. Если продолжить приведенное выше сравнение, то сегодня сидящий в тюремной камере литературы писатель озабочен не столько своим индивидуальным одиночеством, сколько, напротив, обилием непрошенных гостей и тем, что все они загораживают ему проход.
В подобном воображаемом сообществе уже нет никаких иерархий, ибо здесь любой текст — своего рода точка начала большого произвола. Автору, индентифицирующему себя как писателя, предоставляется право писать беспрепятственно. Исход подобного произвола — бегство. Любой текст есть бегство — бегство, которое на бегу творит самое себя, выскальзывая из рук тех, кто пытается это бегство остановить. Сам бегущий располагает единственной категорией, которая в европейской традиции не подчинена времени — духом. Всё наше писательское творчество реализуется не нашими скрытыми внутренними силами, но методическим движением прочь, цель которого — покой.
В покере есть такая комбинация — стрит-флеш, последовательность карт одной масти. Если на первом кругу торгов вам выпали карты 4 ♥️ 5 ♥️, то вероятность собрать стрит-флеш на флопе — примерно 0,0014%. Здесь необязательно высчитывать математическую вероятность, можно просто подбросить монету порядка пяти тысяч раз, или молиться на чётках примерно 160 кругов. Описательные картографии могут разниться, но все они вполне равноправны.
Да и статья, будем откровенны, не блестала. В те времена меня интересовал вопрос радикальной инаковости, непохожести, парадигмальные сдвиги в нашем внутреннем чувстве сознания времени. В тексте я попытался вообразить себе ингуманистический вариант воплощения утопических идей модерна — пессимистическую картину туманной неопределённости человеческого общества, его тотальную рассубъективацию и текучие общественные отношения.
Между тем вопрос радикальной инаковости (даже если мы не затрагивает достаточно специфический гуманитарный срез «тёмного поворота») — важная часть современного инновативного искусства, в особенности — литературы.
Литературный способ мышления склонен к кодификациям, вырывающим мысленные акты из непосредственной власти языка. Что имеется ввиду: тюрьма мышления, идентификация которого напрямую связана с языком, изначально не предполагает определённого выхода за его пределы. Образуется замкнутый круг. Разрыв круга создаёт двоякую возможность.
- Выход из языка радикально-бессловесными способами: смех, слёзы, мистическое оргазмирование; короче говоря — покидание сферы всякой возможной мысли и мышления как такового.
- Основание нового языка, чьи дистинкции не будут соприкасаться и иметь любого рода связи с прежним языком. В новом языке появляется заново не только новый способ мышления, но и свой собственный способ литературной организации.
Новые способы реализации “большого проекта литературы” зачастую лишь сообщают нам состояние литературы прошлых лет, уподобляясь рисункам на стенах тюремных камер, узники которых — писатели.
Помню, в сборнике статей Андрея Левкина «Искусство прозы, а заодно и поэзии» есть прекрасный фрагмент с описанием представителя литературы авангарда. Авангардист склонен (вообще, это довольно расхожий троп) изобретать довольно инклюзивную метафору письма, реализовывать эту метафору в своих текстах; теперь — это его главнейшая опора, к которой он привязан. Обойдём стороной подобные профессиональные неудачи.
Вообще, речь не просто так зашла о странной литературе (или литературе со странностями). Под «странным» здесь подразумевается даже не обязательно weird-литература. Мне, прежде всего, интересна литература, основания которой засыпаны вулканическим пеплом и пылью времени, которая, тем не менее, расцветает в органических для неё формах — безкорневая система формульных решений письма.
Переключим оптику: Кривулин, Шварц, Миронов, Стратановский — когорта петербургского андерграунда— мыслятся в качестве переброшенного из серебряного века мостика. Это — попытка вернуть естественное развитие русскоязычной поэзии, прерванной официозным неоклассицизмом, перекрывшим когда-то воздух. Разумеется, гетероморфные поэтические эксперименты имеют мало общего с современными визуальными решениями поэзии и прозы (их разделение на сегодняшний день — исключительно номинальное). Плоскость фонетического стала, простите, визуальным пейзажем. Можно найти много объяснений подобному (поэтикой Драгомощенко, связью между лианозовцами — через конкретистов — с концептуалистами, или филологической школой вместе с метареалистами).
Получается забавное: современный способ письма связывается не столько с наследованием определённой литературной традиции, сколько с её институциональной критикой и преодолением (об этом славно писал Михаил Эпштейн в книге «Из хаоса»). Современные консервативные литераторы часто свидетельствуют о болезни литературы, соотнося её нездоровое состояние с засильем авангарда. Если исключить достаточно конкретный набор её язв (в виде консервативных литераторов), то её болезни будет невозможно отличить от её общего здоровья.
Я не хочу сказать, что в литературе на сегодняшний день отсутствует элемент преемственности. В большей мере меня заботят новые онтологические способы коллажирования литературы: каждый новый модус литературы, каждый новый обнаруженный регистр письма, каждый новый способ необычайной организации синтаксиса порождает в небытии литературы её новые способы существования. Если продолжить приведенное выше сравнение, то сегодня сидящий в тюремной камере литературы писатель озабочен не столько своим индивидуальным одиночеством, сколько, напротив, обилием непрошенных гостей и тем, что все они загораживают ему проход.
В подобном воображаемом сообществе уже нет никаких иерархий, ибо здесь любой текст — своего рода точка начала большого произвола. Автору, индентифицирующему себя как писателя, предоставляется право писать беспрепятственно. Исход подобного произвола — бегство. Любой текст есть бегство — бегство, которое на бегу творит самое себя, выскальзывая из рук тех, кто пытается это бегство остановить. Сам бегущий располагает единственной категорией, которая в европейской традиции не подчинена времени — духом. Всё наше писательское творчество реализуется не нашими скрытыми внутренними силами, но методическим движением прочь, цель которого — покой.
В покере есть такая комбинация — стрит-флеш, последовательность карт одной масти. Если на первом кругу торгов вам выпали карты 4 ♥️ 5 ♥️, то вероятность собрать стрит-флеш на флопе — примерно 0,0014%. Здесь необязательно высчитывать математическую вероятность, можно просто подбросить монету порядка пяти тысяч раз, или молиться на чётках примерно 160 кругов. Описательные картографии могут разниться, но все они вполне равноправны.