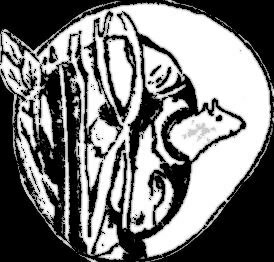Александр Чанцев
Родился в Москве в 1978.
Японовед, критик, эссеист, прозаик.
Закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, стажировался в буддийском университете Рюкоку (Киото, Япония).
Кандидат филологических наук, автор первой отечественной монографии о Юкио Мисиме.
Автор 8 книг, более 200 публикаций в российской и зарубежной периодике.
Произведения переведены на английский, японский, сербский и другие языки.
Лауреат Премии Андрея Белого, премий журналов «Новый мир» и «Дружба народов», Волошинского конкурса, специальный диплом «За новизну и метафорическую емкость прозы» Международной премии имени Фазиля Искандера, финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм».
Входил в состав жюри премии «Неистовый Виссарион» (2023) и Премии Андрея Белого (2023-2024).
Японовед, критик, эссеист, прозаик.
Закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, стажировался в буддийском университете Рюкоку (Киото, Япония).
Кандидат филологических наук, автор первой отечественной монографии о Юкио Мисиме.
Автор 8 книг, более 200 публикаций в российской и зарубежной периодике.
Произведения переведены на английский, японский, сербский и другие языки.
Лауреат Премии Андрея Белого, премий журналов «Новый мир» и «Дружба народов», Волошинского конкурса, специальный диплом «За новизну и метафорическую емкость прозы» Международной премии имени Фазиля Искандера, финалист премии «Независимой газеты» «Нонконформизм».
Входил в состав жюри премии «Неистовый Виссарион» (2023) и Премии Андрея Белого (2023-2024).
Санки бежит
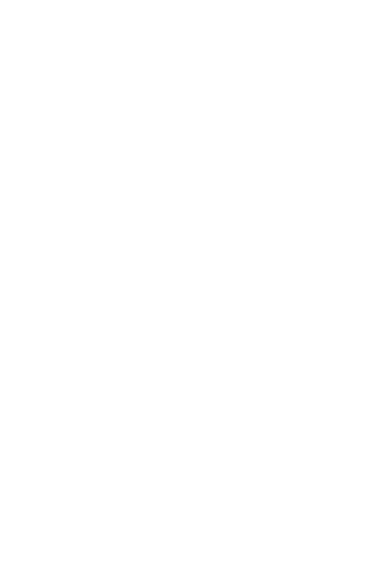
Риити Ёкомицу. Шанхай / Пер. с яп. Т. Бреславец, Л. Ермаковой. СПб.: Гиперион, 2024. 304 с.
Как мне уже приходилось отмечать, с переводами с японского сейчас дела обстоят довольно хорошо. Если еще десять лет назад, отвечая на вопрос, что почитать, приходилось называть лишь отдельные издания, то теперь можно просто отсылать к двум издательствам (действуют и другие, но точечно) – «Гиперион» и «Желтый двор». Они оставили (даже и не занимались ею) волновавшую много лет наших издателей задачу «найти второго Мураками» и просто трудолюбиво и интересное переводят.
Говоря еще о тенденциях, можно сказать, что дело дошло и до модернизма, благо явление это было вполне значимым в Японии. Тут можно вспомнить перевод «Догра Магра» К. Юмэно или даже отдельные произведения из сборника детской литературы (!) «Красная птица».
Впрочем, Риити Ёкомицу проходит не только по разряду странных и маргинальных авторов – писатель он в Японии известный и заслуженный (с нюансами, но в новые и новейшие времена куда уж без них). А у нас практически неизвестный, потому что в советские времена не переводился, а в постсоветские книга вышла только сейчас.
Сразу отметим, почему капиталистическая Япония и социалистический Советский Союз были солидарны, ополчившись против Ёкомицу. Во время войны он поддержал свою страну. Нет, на фронтах никого не убивал, но был даже делегирован в Германию как «представитель творческих кругов» (там и в Париже ему очень не понравилось, затосковал), воспевал доблесть отправляющихся на смерть камикадзе, а еще и после войны каяться и посыпать голову пеплом не очень желал. Этого вполне хватило для осуждения на Родине. Прогрессивные демократические писатели вроде Юрико Миямото (вот ее в Союзе переводили, до сих пор помню, когда из «современных» были только она и еще парочка имен) набросились и клеймили «военным преступником от литературы». «Все хотят подставить мне подножку. Это и понятно – ведь кто свалит ёкодзуна, у того имя сразу вверх взлетит», приметливо заметил Ёкомицу и умер в 1947 году. К обвинительному же списку в нашей стране прибавилось и то, что «очень далёк он был от народа» - увлекался всякими «формалистскими экспериментами».
Это, действительно, так. То писал в технике, приближенной к потоку сознания, то весьма кинематографично, в духе «киноглаза» Дзиги Вертова, то вообще изобрел повествование от «четвертого лица». Оное должно было максимально отдалиться как от европейской традиции натуралистического романа, так и от японского «эго-романа» (популярная в те годы традиция, которую Ёкомицу очень не любил и, как сейчас бы сказали, деконструировал и всячески троллил. Как, впрочем, не жаловал он натурализм и пролетарскую литературу). «Четвертое лицо» же было призвано максимально абстрагироваться от всего этого в духе «остранения» Шкловского – и идеи русских формалистов здесь не притянуты, их знали в Японии и в кругу Ёкомицу. Об этом, как и об особенностях японских местоимений, и так изрядно абстрагирующих и дистанцирующих(ся), можно прочесть в небольшом, но ёмком предисловии Людмилы Ермаковой к книге.
За художественные искания в которой отвечают прежде всего рассказы. Кстати, тоже не без «русского следа». «Конь божества», написанный от лица лошади, не может не напомнить толстовского «Холстомера», а «Весна приезжает в пролетке», максимально сухой, но тем более бьющий поддых отчет о постепенном умирании жены, еще и с автобиографической подкладкой, - «Смерть Ивана Ильича». Рассказы «Муха», «Птица» и полуторастраничный «Зима и женщина» тоже не просто хорошая проза, но и «с ключом», каждый раз с другой резьбой.
Роман «Шанхай» тоже обычным не назовешь, хотя авангардные техники он прямо и не реализует. И если Риити Ёкомицу – кроме оригинальных идей, которые он провозглашал как теоретик литературы, - примыкал к группе так называемых неосенсуалистов, то я бы, погрешив против формальных определений, отнёс бы его к другому изводу модернисткой парадигмы. Но все же по порядку.
Стилистически очень прокаченный, мускулистый роман – о самом расцвете (и самом упадке) Шанхайского международного сетлмента, когда в китайском городе иностранные представительства и бизнес практически не подчинялись китайцам, жили своей жизнью, выбивая максимальные прибыли из страны, высасывая все её ресурсы. А где большие деньги, то и большие развлечения, преступления и все прочее. Наркотики, проституция и весь этот джаз. Локация по градусу страстей вообще не уступает гангстерскому Нью-Йорку времен «сухого закона», предвоенному Парижу или «ревущему» Лондону. Даже, пожалуй, и круче всё. «Вскоре белогвардейцы с обнаженными саблями запрыгнули в автомобиль, и тот помчался сквозь толпу. Только группа китайцев наблюдала за происходящим, словно произошло нечто обыденное. Коя направился к консульству: раненого несли на плечах полицейские-индийцы, рядом шли, дымя сигаретами, русские проститутки под ручку с английскими моряками». Потому что такой беспредел не мог не вызвать взрыва, у плавильного котла сорвало крышку - китайские погромщики саботируют фабрики, поднимают восстание, объявляют забастовку. Пока же «американцы обнимаются с немцами, испанцы обнимаются с русскими, португальцы столкнулись с метисами. Норвежцы пинком ноги отбрасывают стулья. Расцеловавшись, пируют англичане. Пьяные сиамцы, французы, итальянцы, болгары. И только Санки, закинув локоть на спинку стула, пристально, как жаба, наблюдает, как распаленные мужчины из разных стран бьются в паутине Мияко».
Санки, уже пора познакомиться, это главный герой, молодой японец, то работающий, то увольняющийся из японских банков. Им движет просто вагнеровское Liebestod. С одной стороны, он влюблен во всех. Или, вернее, все в него. Сестра друга и японская куртизанка, китайская революционерка (а разговорам о коммунизме, паназиатизме и прочей геополитике тут посвящена не одна страница), еще одна японская содержанка, а еще бежавшая от революции русская дворянка Ольга. Он – бежит от них всех. Как в «Посторонних» Годара или «Мечтателях» Бертолуччи – он вообще постоянно бежит, в истерическом достоевском движении. Он одержим смертью, мечтает о самоубийстве. «Раз в день, пусть в шутку, но он непременно обдумывал способы покончить с собой».
И смерть царит вокруг в Шанхае невозбранно. «Оторванными руками размахивали над собой идущие впереди, двигаясь по одной улице, а ноги перемещались с оставшейся частью толпы, направляясь к другой. На втором этаже здания метались в окне, обнявшись, японские танцовщицы, и именно в это окно полетел град камней. <…> Кое-где на телеграфных столбах появились отрубленные головы неизвестных, чьи носы уже начали разлагаться». А чего стоит только их общий друг, у которого Коя находит укрытие от взбунтовавшихся революционных и прочих масс, - тот делает бизнес, продавая врачам скелеты, которые вываривает из скупленных трупов. «Под гроздьями свисающих со стен белых костей какой-то китаец чистил щеткой погруженные в раствор человеческие ноги. Коя сперва подумал, что при обработке костей дело этим и ограничивается, однако вдруг заметил, что обод чана с костями плавно колышется по всей окружности, отливая бледной голубизной. Присмотревшись, он увидел, что чан был доверху заполнен личинками, которые копошились там густой массой, стараясь выбраться наружу». А наружи им помогают крысы, в плане избавления от лишних отходов незаменимые создания.
Но шутки в сторону – Санки бежит. То есть то просто фланирует, наблюдая все это, как герой «Берлин, Александрплатц» Дёблина, то обсуждает это с друзьями или с самим собой в духе «Циников» Мариенгофа. «Вспомнив, что уже выказывал раскаяние, он решил: раз он сейчас умиротворён, наслаждается вместе с китаянкой бесцельной прогулкой по китайскому кварталу, то и прекрасно. Размышлять о чём-то еще, право, бессмысленно». И то верно.
Но я сказал, что тут у Ёкомицу не неосенсуализм, хотя и он, но оправданнее, на мой взгляд, было бы отнесение его романа к ареалу экспрессионизма. Эта жесткость и телесность, социальное дно и эстетизм, натурализм и разочарование, тревога и страх, ужас и восторг от нового технократического века в духе «хлопок, низвергающийся водопадом из круглой трубы. Крутящийся вал. Лавина хлопка, несущегося мощным потоком. Поднимая вихрь, вибрировала башня машины, напоминающая каменную пещеру». И все это подано, будто камерой Эйзенштейна. «Ямагути наскучило ждать возвращения Кои, и он вышел на улицу. Позолоченный остов кровати; тушка утки, булькающая на огне; срезанный ярко-красный водный стрелолист; свежий глянец вытянувшегося в ряд сахарного тростника; женская обувь и железное окошко меняльной лавки. Кочаны капусты, манго, свечи, нищие». Под таким и ранний Готфрид Бенн бы подписался.
В любом случае, в этой компактной книге можно найти многое.
«На дне затяжного дождя смутно изгибались рельсы ночи».
Как мне уже приходилось отмечать, с переводами с японского сейчас дела обстоят довольно хорошо. Если еще десять лет назад, отвечая на вопрос, что почитать, приходилось называть лишь отдельные издания, то теперь можно просто отсылать к двум издательствам (действуют и другие, но точечно) – «Гиперион» и «Желтый двор». Они оставили (даже и не занимались ею) волновавшую много лет наших издателей задачу «найти второго Мураками» и просто трудолюбиво и интересное переводят.
Говоря еще о тенденциях, можно сказать, что дело дошло и до модернизма, благо явление это было вполне значимым в Японии. Тут можно вспомнить перевод «Догра Магра» К. Юмэно или даже отдельные произведения из сборника детской литературы (!) «Красная птица».
Впрочем, Риити Ёкомицу проходит не только по разряду странных и маргинальных авторов – писатель он в Японии известный и заслуженный (с нюансами, но в новые и новейшие времена куда уж без них). А у нас практически неизвестный, потому что в советские времена не переводился, а в постсоветские книга вышла только сейчас.
Сразу отметим, почему капиталистическая Япония и социалистический Советский Союз были солидарны, ополчившись против Ёкомицу. Во время войны он поддержал свою страну. Нет, на фронтах никого не убивал, но был даже делегирован в Германию как «представитель творческих кругов» (там и в Париже ему очень не понравилось, затосковал), воспевал доблесть отправляющихся на смерть камикадзе, а еще и после войны каяться и посыпать голову пеплом не очень желал. Этого вполне хватило для осуждения на Родине. Прогрессивные демократические писатели вроде Юрико Миямото (вот ее в Союзе переводили, до сих пор помню, когда из «современных» были только она и еще парочка имен) набросились и клеймили «военным преступником от литературы». «Все хотят подставить мне подножку. Это и понятно – ведь кто свалит ёкодзуна, у того имя сразу вверх взлетит», приметливо заметил Ёкомицу и умер в 1947 году. К обвинительному же списку в нашей стране прибавилось и то, что «очень далёк он был от народа» - увлекался всякими «формалистскими экспериментами».
Это, действительно, так. То писал в технике, приближенной к потоку сознания, то весьма кинематографично, в духе «киноглаза» Дзиги Вертова, то вообще изобрел повествование от «четвертого лица». Оное должно было максимально отдалиться как от европейской традиции натуралистического романа, так и от японского «эго-романа» (популярная в те годы традиция, которую Ёкомицу очень не любил и, как сейчас бы сказали, деконструировал и всячески троллил. Как, впрочем, не жаловал он натурализм и пролетарскую литературу). «Четвертое лицо» же было призвано максимально абстрагироваться от всего этого в духе «остранения» Шкловского – и идеи русских формалистов здесь не притянуты, их знали в Японии и в кругу Ёкомицу. Об этом, как и об особенностях японских местоимений, и так изрядно абстрагирующих и дистанцирующих(ся), можно прочесть в небольшом, но ёмком предисловии Людмилы Ермаковой к книге.
За художественные искания в которой отвечают прежде всего рассказы. Кстати, тоже не без «русского следа». «Конь божества», написанный от лица лошади, не может не напомнить толстовского «Холстомера», а «Весна приезжает в пролетке», максимально сухой, но тем более бьющий поддых отчет о постепенном умирании жены, еще и с автобиографической подкладкой, - «Смерть Ивана Ильича». Рассказы «Муха», «Птица» и полуторастраничный «Зима и женщина» тоже не просто хорошая проза, но и «с ключом», каждый раз с другой резьбой.
Роман «Шанхай» тоже обычным не назовешь, хотя авангардные техники он прямо и не реализует. И если Риити Ёкомицу – кроме оригинальных идей, которые он провозглашал как теоретик литературы, - примыкал к группе так называемых неосенсуалистов, то я бы, погрешив против формальных определений, отнёс бы его к другому изводу модернисткой парадигмы. Но все же по порядку.
Стилистически очень прокаченный, мускулистый роман – о самом расцвете (и самом упадке) Шанхайского международного сетлмента, когда в китайском городе иностранные представительства и бизнес практически не подчинялись китайцам, жили своей жизнью, выбивая максимальные прибыли из страны, высасывая все её ресурсы. А где большие деньги, то и большие развлечения, преступления и все прочее. Наркотики, проституция и весь этот джаз. Локация по градусу страстей вообще не уступает гангстерскому Нью-Йорку времен «сухого закона», предвоенному Парижу или «ревущему» Лондону. Даже, пожалуй, и круче всё. «Вскоре белогвардейцы с обнаженными саблями запрыгнули в автомобиль, и тот помчался сквозь толпу. Только группа китайцев наблюдала за происходящим, словно произошло нечто обыденное. Коя направился к консульству: раненого несли на плечах полицейские-индийцы, рядом шли, дымя сигаретами, русские проститутки под ручку с английскими моряками». Потому что такой беспредел не мог не вызвать взрыва, у плавильного котла сорвало крышку - китайские погромщики саботируют фабрики, поднимают восстание, объявляют забастовку. Пока же «американцы обнимаются с немцами, испанцы обнимаются с русскими, португальцы столкнулись с метисами. Норвежцы пинком ноги отбрасывают стулья. Расцеловавшись, пируют англичане. Пьяные сиамцы, французы, итальянцы, болгары. И только Санки, закинув локоть на спинку стула, пристально, как жаба, наблюдает, как распаленные мужчины из разных стран бьются в паутине Мияко».
Санки, уже пора познакомиться, это главный герой, молодой японец, то работающий, то увольняющийся из японских банков. Им движет просто вагнеровское Liebestod. С одной стороны, он влюблен во всех. Или, вернее, все в него. Сестра друга и японская куртизанка, китайская революционерка (а разговорам о коммунизме, паназиатизме и прочей геополитике тут посвящена не одна страница), еще одна японская содержанка, а еще бежавшая от революции русская дворянка Ольга. Он – бежит от них всех. Как в «Посторонних» Годара или «Мечтателях» Бертолуччи – он вообще постоянно бежит, в истерическом достоевском движении. Он одержим смертью, мечтает о самоубийстве. «Раз в день, пусть в шутку, но он непременно обдумывал способы покончить с собой».
И смерть царит вокруг в Шанхае невозбранно. «Оторванными руками размахивали над собой идущие впереди, двигаясь по одной улице, а ноги перемещались с оставшейся частью толпы, направляясь к другой. На втором этаже здания метались в окне, обнявшись, японские танцовщицы, и именно в это окно полетел град камней. <…> Кое-где на телеграфных столбах появились отрубленные головы неизвестных, чьи носы уже начали разлагаться». А чего стоит только их общий друг, у которого Коя находит укрытие от взбунтовавшихся революционных и прочих масс, - тот делает бизнес, продавая врачам скелеты, которые вываривает из скупленных трупов. «Под гроздьями свисающих со стен белых костей какой-то китаец чистил щеткой погруженные в раствор человеческие ноги. Коя сперва подумал, что при обработке костей дело этим и ограничивается, однако вдруг заметил, что обод чана с костями плавно колышется по всей окружности, отливая бледной голубизной. Присмотревшись, он увидел, что чан был доверху заполнен личинками, которые копошились там густой массой, стараясь выбраться наружу». А наружи им помогают крысы, в плане избавления от лишних отходов незаменимые создания.
Но шутки в сторону – Санки бежит. То есть то просто фланирует, наблюдая все это, как герой «Берлин, Александрплатц» Дёблина, то обсуждает это с друзьями или с самим собой в духе «Циников» Мариенгофа. «Вспомнив, что уже выказывал раскаяние, он решил: раз он сейчас умиротворён, наслаждается вместе с китаянкой бесцельной прогулкой по китайскому кварталу, то и прекрасно. Размышлять о чём-то еще, право, бессмысленно». И то верно.
Но я сказал, что тут у Ёкомицу не неосенсуализм, хотя и он, но оправданнее, на мой взгляд, было бы отнесение его романа к ареалу экспрессионизма. Эта жесткость и телесность, социальное дно и эстетизм, натурализм и разочарование, тревога и страх, ужас и восторг от нового технократического века в духе «хлопок, низвергающийся водопадом из круглой трубы. Крутящийся вал. Лавина хлопка, несущегося мощным потоком. Поднимая вихрь, вибрировала башня машины, напоминающая каменную пещеру». И все это подано, будто камерой Эйзенштейна. «Ямагути наскучило ждать возвращения Кои, и он вышел на улицу. Позолоченный остов кровати; тушка утки, булькающая на огне; срезанный ярко-красный водный стрелолист; свежий глянец вытянувшегося в ряд сахарного тростника; женская обувь и железное окошко меняльной лавки. Кочаны капусты, манго, свечи, нищие». Под таким и ранний Готфрид Бенн бы подписался.
В любом случае, в этой компактной книге можно найти многое.
«На дне затяжного дождя смутно изгибались рельсы ночи».