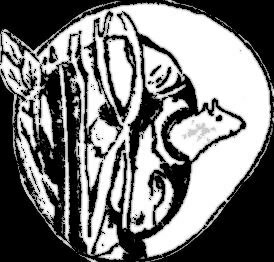Николай Герасимов
кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН.
Автор книг
"Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм" (М: Individuum, 2024)
и "Николай Бердяев, 1874-1948" (М.: Дом русского зарубежья, 2019).
Автор телеграм-канала "Безутешная русская философия".
Автор книг
"Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм" (М: Individuum, 2024)
и "Николай Бердяев, 1874-1948" (М.: Дом русского зарубежья, 2019).
Автор телеграм-канала "Безутешная русская философия".
Русский нигилизм: о невыразимом, о смерти, о сакральном
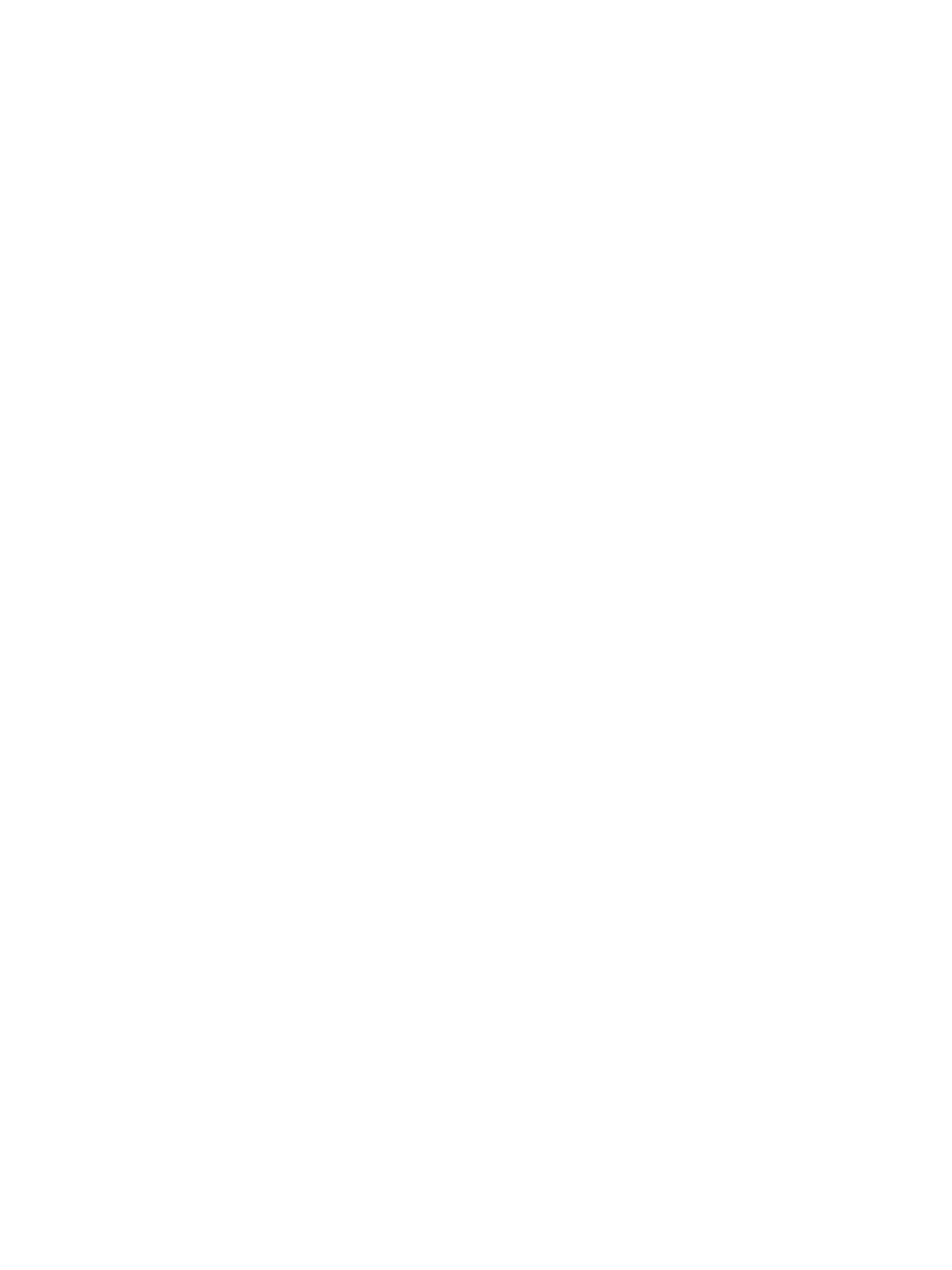
Нигилизм. Эстетика. Язык.
Увидеть в русском нигилизме философский праксис значит открыть ящик Пандоры. Как показывают публикации рубежа XIX-XX веков, именно русский нигилизм интересовал европейских и американских журналистов, философов и юристов более всего. Нигилизм в России — это не просто отрицание моральных и политических традиций (Й. Гёррес), а способ жить в негации, в непринятии. Прежде всего, это особая форма интимного неравнодушия, которая перформативно раскрывалась через равнодушие публичное. Всё самое важное в русском нигилизме было посвящено невыразимому. Поэтому нигилизм так хорошо развивался именно в области эстетики («Прекрасна сама жизнь» Н.Г. Чернышевский). То, что плохо сообщается в словах – то должно избегать слов. Оно не для слов. Оно для образов, мимики и жестов.
Нигилист выражал себя через жесты. Жесты публика воспринимала как непосредственное высказывание, до-языковое, спонтанное и живое, не нуждающееся в вербальном кодировании. Читатель справедливо спросит «что имеется в виду под “выражал себя через жесты”»? И будет прав – здесь нужно внести ясность. Под жестом я понимаю совокупность всего сказанного и не сказанного, то есть и сами слова, и поза, и интонация голоса, и почерк письма, и взмахи руками, и тяжёлый надрывный вой, и громкий смех и т.д. Всю жизнь нигилиста стоит рассматривать сквозь призму риторики – через искусство донесения (но не доноса). Когда нигилист говорит – он изображает, показывает, демонстрирует, но не информирует в буквальном смысле этого слова. Он не сообщает, а указывает. Он разговаривает, но не говорит, как бы странно это ни звучало. Вся жизнь нигилиста вращается вокруг седьмого, последнего тезиса «Логико-философского трактата» Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».
Молчание нигилиста – это молчание о том, о чём нельзя сказать внятно. Для нигилиста очень важно указывать, но не говорить. Когда нигилист говорит – он указывает, а не сообщает, не информирует. Он указывает нам на то, что ужасно. Он указывает нам на то, что прекрасно. Нигилизм как праксис – работа с тем, о чём можно было бы сказать, но если сказать – то получится отвратительно.
Русский нигилист чувствовал отвращение от больших нарраций ещё задолго до того, как на сцене появился Ж. Лиотар с его «Состоянием постмодерна». Писарев полемизировал с Достоевским. И встав на путь литературной критики, то есть разговора как информирования — ушёл от философского праксиса, поэтому проиграл ФМ во всём. Во всём, кроме того, что Достоевский ещё сам не мог знать — будущая антропологическая катастрофа будет связана не с безверием и скепсисом, а с равнодушием. Равнодушие, которое будет скрываться под маской «поиска себя».
Классический нигилизм погиб, когда решил, что может рассказать что-то внятное о том, что можно помыслить, но нельзя представить (например, проекты будущего общества). Понадобился Ницше, чтобы покончить с этим делом. Тогда на сцене появился неонигилизм, который уже чётко понимал, что худший и лучший друг (и враг) человека — это время. Андрей Андреев в 1920 гг. настаивал, что свобода нигилиста - свобода от прошлого и будущего. Что это значит для философского праксиса? Это та самая «осознанность» (гештальт-терапия Перлзов и Гудмана) и «вот-бытие» (феноменология Хайдеггера). Это попытка жить, а не сожалеть, это подвиг жизни, а не ожидание. Экзистенциальная негация — это путь апофатики (страшное слово). Мы не всегда знаем, что есть благо, зато у нас есть огромный опыт столкновения с тем, что благом назвать нельзя (и что лишь прикидывается благом).
Означает ли что нигилизм сейчас – это форма социальной критики? Лишь отчасти. Социальная критика верит в то, что о зле можно сказать что-то внятное. Это не так. Зло, как и добро (как и благо) – настолько немыслимое явление, что его, казалось бы, и не должно быть. Но оно есть. И проявляет себя, как только может.
Фальшь современного мира как будто всегда ускользает от языка. Мы знаем, что продажа человеческих органов в Центральной Африке – это огромный источник обогащения в том числе и для тех, кто любит говорить о морали. Мы знаем про проблему нехватки питьевой воды во многих уголках мира, мы знаем про чудовищное социально-экономическое неравенство по всей Земли – мы читаем обо всём этом аналитические разборы журналистов и социологов, а иногда даже слушаем тех, кто пытается с этим бороться. Не стоит углубляться в рефлексию, чтобы понять простую вещь – как будто всё самое главное ускользает от нашего взора.
Нигилист пытается удержать в себе эту свободу жить. Но общество не может простить человеку его одиночество (А.А. Боровой) — поэтому нигилист обречён на борьбу с традициями, нормами и правилами. Имморализм Ницше – аристократический, аморализм Штирнера – эгоистический, безнравственность нигилиста – неравнодушная. Нигилист чувствует больше, чем может сказать. Как и Владимир Набоков, он «знает больше, чем может выразить словами, и то немногое, что он может выразить, не было бы выражено, не знай он большего». Нигилизм - сознательный выбор в пользу глубины жизни, а не её продолжительности. Это не «nihilismus» (нем.) и «nihilisme» (фр.), это сосредоточенность на мгновении, когда чувствам мешает гул церковных колоколов.
Слёзы — земле (о воскрешении Базарова): нигилизм и смерть.
«Миру – поцелуи» (1923) биокосмист А. Ярославский написал не для того, чтобы получить пулю в коридоре Соловецкого лагеря. Он не верил в бессмертие и не верил в Воскрешение. Но он мечтал о бессмертии, потому что не хотел Воскрешения. Бессмертие индивидуально, Воскрешение – нет. Но Ярославскиий также знал о любви — поэтому миру он желал лишь поцелуи.
Бессмертие — в отсутствии. Где нет жизни — смерть не настигнет. Любовь — в отсутствии зла. Где нет насилия — зло погибает.
Кажется, это хорошо понимал Э. Ильенков (и я не про то, как он проткнул себе сонную артерию ножом). Отсутствие как событие — это творческий акт. Это не «дух разрушающий», который в то же время и «дух созидающий» (М. Бакунин), а выпад из бытия в чувстве любви. Ради любви к Другому. Тебя нет, чтобы был кто-то Другой. Это восстание против энтропии. Это пустота ради спасения того, кого ты не знаешь, но любишь. Уступи. Отпусти. И ты будешь прощён и забыт.
Жизни может стать так мало, что её умножение найдёт источник в дефицитарности. В 1983 г. сотрудники Института биохимической физики вместе с коллегами из Института психологии, изучая влияние антиоксидантов на электрическую активность нейрона виноградной улитки, получили весьма неожиданный результат – при использовании гормонального препарата на уровне смерхмалой дозировки наблюдается не спад, а стремительный рост.
Быть может выпадение из бытия — это не только восстание против энтропии, но и шаг навстречу к жизни. Не для себя, а для Других. Сколько нужно пролить слёз, чтобы Базаров не воскрес? Сколько нужно слёз, чтобы из Базарова наконец-то вырос лопух? Насколько мало их должно быть? Чтобы не было Воскрешения, чтобы жизнь длилась и дальше, а нигилист пребывал в небытии. Сколько нужно любви, чтобы её отсутствие стало заметным – а значит лабораторно наблюдаемым?
Если мысли будут бесконечно тёмными — их не достанет Божественный свет. Ведь все они — про отсутствие. Гравитация в чёрной дыре рефлексии так сильна, что свету никогда не быть, а Базаров всегда будет в могиле. И, наверное, жизнь будет и дальше. И энтропия не наступит. И Воскрешения не будет. Будет вечная жизнь.
Нигилизм, молчание, самоубийство
Нигилист принимает смерть, но не отрицает жизнь. Нигилист готов жить так мало, чтобы осталось места для Другого. Для Других. Эта аскезу можно не увидеть. Нигилистов часто упрекают в том, что они слишком много кричат, говорят, жестикулируют. Не волнуйтесь. Нигилист рано или поздно замолчит. Как это сделали повешенные после «Бойни на Хеймаркет» чикагские анархисты. Как известно, анархист А. Спис перед повешением успел сказать: «Придёт день, когда наше молчание будет могущественней, чем голоса, которые вы душите сегодня!»1. По мнению профессора Дж. Николсона, А. Камю узнал об этом «молчании» ещё в 1938 г., работая в газете «Alger républicain» – именно тогда он познакомился с радикальным молчанием. А потом спустя несколько лет написал «Миф о Сизифе», где сформулировал знаменитое «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства».
Нигилист не убивает себя. И делает всё, чтобы это ни случилось с другими. Нигилист борется с тем, что толкает к самоубийству – с невыразимым злом, которое прячется в двуличии современной морали.
Социальная критика говорит лишь о проявлении зла. Нигилизм указывает на источники зла. Конечно же нигилизм, выбирая путь апофатики, не превращается в форму социальной критики. Даже будучи апофатическим, нигилистическое отрицание оказывается за пределами самой апофатической культуры. Нигилист чувствует сакральное, но не знает его. Путь нигилиста – путь чувств. Там где люди говорят о сакральном, нигилист чувствует фальшь морали, культуры и самого языка. Поэтому, повторю, нигислист пытается сосредоточиться на мгновении, когда чувствам мешает гул церковных колоколов. Звук колоколов –– о сакральном, не в языке выраженном, но культурно репрезентированном.
Нигилист любит тишину и шум одновременно. Ни там, ни тут нет культуры и морали. Для нигилиста подлинная реальность соткана из тишины и шума. Он хотел бы раствориться во всём в этой реальности. И он мог бы это сделать – ведь он не скован цепями морализма, долга, обязательств. Но чувство сакрального возвращает его обратно. Он чувствует то важное и невыразимое, что ещё есть в мире. Поэтому нигилист не уходит. И делает всё, чтобы не уходили другие.
«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...».
Тургенев И.С. Отцы и дети.
1Цит. по Черненко Ж. И. Трагедия на площади Хеймаркет и в сердцах трёх активисток // Диалог со временем. 2020. Вып. 71. С. 260-270. С.264.
Увидеть в русском нигилизме философский праксис значит открыть ящик Пандоры. Как показывают публикации рубежа XIX-XX веков, именно русский нигилизм интересовал европейских и американских журналистов, философов и юристов более всего. Нигилизм в России — это не просто отрицание моральных и политических традиций (Й. Гёррес), а способ жить в негации, в непринятии. Прежде всего, это особая форма интимного неравнодушия, которая перформативно раскрывалась через равнодушие публичное. Всё самое важное в русском нигилизме было посвящено невыразимому. Поэтому нигилизм так хорошо развивался именно в области эстетики («Прекрасна сама жизнь» Н.Г. Чернышевский). То, что плохо сообщается в словах – то должно избегать слов. Оно не для слов. Оно для образов, мимики и жестов.
Нигилист выражал себя через жесты. Жесты публика воспринимала как непосредственное высказывание, до-языковое, спонтанное и живое, не нуждающееся в вербальном кодировании. Читатель справедливо спросит «что имеется в виду под “выражал себя через жесты”»? И будет прав – здесь нужно внести ясность. Под жестом я понимаю совокупность всего сказанного и не сказанного, то есть и сами слова, и поза, и интонация голоса, и почерк письма, и взмахи руками, и тяжёлый надрывный вой, и громкий смех и т.д. Всю жизнь нигилиста стоит рассматривать сквозь призму риторики – через искусство донесения (но не доноса). Когда нигилист говорит – он изображает, показывает, демонстрирует, но не информирует в буквальном смысле этого слова. Он не сообщает, а указывает. Он разговаривает, но не говорит, как бы странно это ни звучало. Вся жизнь нигилиста вращается вокруг седьмого, последнего тезиса «Логико-философского трактата» Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».
Молчание нигилиста – это молчание о том, о чём нельзя сказать внятно. Для нигилиста очень важно указывать, но не говорить. Когда нигилист говорит – он указывает, а не сообщает, не информирует. Он указывает нам на то, что ужасно. Он указывает нам на то, что прекрасно. Нигилизм как праксис – работа с тем, о чём можно было бы сказать, но если сказать – то получится отвратительно.
Русский нигилист чувствовал отвращение от больших нарраций ещё задолго до того, как на сцене появился Ж. Лиотар с его «Состоянием постмодерна». Писарев полемизировал с Достоевским. И встав на путь литературной критики, то есть разговора как информирования — ушёл от философского праксиса, поэтому проиграл ФМ во всём. Во всём, кроме того, что Достоевский ещё сам не мог знать — будущая антропологическая катастрофа будет связана не с безверием и скепсисом, а с равнодушием. Равнодушие, которое будет скрываться под маской «поиска себя».
Классический нигилизм погиб, когда решил, что может рассказать что-то внятное о том, что можно помыслить, но нельзя представить (например, проекты будущего общества). Понадобился Ницше, чтобы покончить с этим делом. Тогда на сцене появился неонигилизм, который уже чётко понимал, что худший и лучший друг (и враг) человека — это время. Андрей Андреев в 1920 гг. настаивал, что свобода нигилиста - свобода от прошлого и будущего. Что это значит для философского праксиса? Это та самая «осознанность» (гештальт-терапия Перлзов и Гудмана) и «вот-бытие» (феноменология Хайдеггера). Это попытка жить, а не сожалеть, это подвиг жизни, а не ожидание. Экзистенциальная негация — это путь апофатики (страшное слово). Мы не всегда знаем, что есть благо, зато у нас есть огромный опыт столкновения с тем, что благом назвать нельзя (и что лишь прикидывается благом).
Означает ли что нигилизм сейчас – это форма социальной критики? Лишь отчасти. Социальная критика верит в то, что о зле можно сказать что-то внятное. Это не так. Зло, как и добро (как и благо) – настолько немыслимое явление, что его, казалось бы, и не должно быть. Но оно есть. И проявляет себя, как только может.
Фальшь современного мира как будто всегда ускользает от языка. Мы знаем, что продажа человеческих органов в Центральной Африке – это огромный источник обогащения в том числе и для тех, кто любит говорить о морали. Мы знаем про проблему нехватки питьевой воды во многих уголках мира, мы знаем про чудовищное социально-экономическое неравенство по всей Земли – мы читаем обо всём этом аналитические разборы журналистов и социологов, а иногда даже слушаем тех, кто пытается с этим бороться. Не стоит углубляться в рефлексию, чтобы понять простую вещь – как будто всё самое главное ускользает от нашего взора.
Нигилист пытается удержать в себе эту свободу жить. Но общество не может простить человеку его одиночество (А.А. Боровой) — поэтому нигилист обречён на борьбу с традициями, нормами и правилами. Имморализм Ницше – аристократический, аморализм Штирнера – эгоистический, безнравственность нигилиста – неравнодушная. Нигилист чувствует больше, чем может сказать. Как и Владимир Набоков, он «знает больше, чем может выразить словами, и то немногое, что он может выразить, не было бы выражено, не знай он большего». Нигилизм - сознательный выбор в пользу глубины жизни, а не её продолжительности. Это не «nihilismus» (нем.) и «nihilisme» (фр.), это сосредоточенность на мгновении, когда чувствам мешает гул церковных колоколов.
Слёзы — земле (о воскрешении Базарова): нигилизм и смерть.
«Миру – поцелуи» (1923) биокосмист А. Ярославский написал не для того, чтобы получить пулю в коридоре Соловецкого лагеря. Он не верил в бессмертие и не верил в Воскрешение. Но он мечтал о бессмертии, потому что не хотел Воскрешения. Бессмертие индивидуально, Воскрешение – нет. Но Ярославскиий также знал о любви — поэтому миру он желал лишь поцелуи.
Бессмертие — в отсутствии. Где нет жизни — смерть не настигнет. Любовь — в отсутствии зла. Где нет насилия — зло погибает.
Кажется, это хорошо понимал Э. Ильенков (и я не про то, как он проткнул себе сонную артерию ножом). Отсутствие как событие — это творческий акт. Это не «дух разрушающий», который в то же время и «дух созидающий» (М. Бакунин), а выпад из бытия в чувстве любви. Ради любви к Другому. Тебя нет, чтобы был кто-то Другой. Это восстание против энтропии. Это пустота ради спасения того, кого ты не знаешь, но любишь. Уступи. Отпусти. И ты будешь прощён и забыт.
Жизни может стать так мало, что её умножение найдёт источник в дефицитарности. В 1983 г. сотрудники Института биохимической физики вместе с коллегами из Института психологии, изучая влияние антиоксидантов на электрическую активность нейрона виноградной улитки, получили весьма неожиданный результат – при использовании гормонального препарата на уровне смерхмалой дозировки наблюдается не спад, а стремительный рост.
Быть может выпадение из бытия — это не только восстание против энтропии, но и шаг навстречу к жизни. Не для себя, а для Других. Сколько нужно пролить слёз, чтобы Базаров не воскрес? Сколько нужно слёз, чтобы из Базарова наконец-то вырос лопух? Насколько мало их должно быть? Чтобы не было Воскрешения, чтобы жизнь длилась и дальше, а нигилист пребывал в небытии. Сколько нужно любви, чтобы её отсутствие стало заметным – а значит лабораторно наблюдаемым?
Если мысли будут бесконечно тёмными — их не достанет Божественный свет. Ведь все они — про отсутствие. Гравитация в чёрной дыре рефлексии так сильна, что свету никогда не быть, а Базаров всегда будет в могиле. И, наверное, жизнь будет и дальше. И энтропия не наступит. И Воскрешения не будет. Будет вечная жизнь.
Нигилизм, молчание, самоубийство
Нигилист принимает смерть, но не отрицает жизнь. Нигилист готов жить так мало, чтобы осталось места для Другого. Для Других. Эта аскезу можно не увидеть. Нигилистов часто упрекают в том, что они слишком много кричат, говорят, жестикулируют. Не волнуйтесь. Нигилист рано или поздно замолчит. Как это сделали повешенные после «Бойни на Хеймаркет» чикагские анархисты. Как известно, анархист А. Спис перед повешением успел сказать: «Придёт день, когда наше молчание будет могущественней, чем голоса, которые вы душите сегодня!»1. По мнению профессора Дж. Николсона, А. Камю узнал об этом «молчании» ещё в 1938 г., работая в газете «Alger républicain» – именно тогда он познакомился с радикальным молчанием. А потом спустя несколько лет написал «Миф о Сизифе», где сформулировал знаменитое «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства».
Нигилист не убивает себя. И делает всё, чтобы это ни случилось с другими. Нигилист борется с тем, что толкает к самоубийству – с невыразимым злом, которое прячется в двуличии современной морали.
Социальная критика говорит лишь о проявлении зла. Нигилизм указывает на источники зла. Конечно же нигилизм, выбирая путь апофатики, не превращается в форму социальной критики. Даже будучи апофатическим, нигилистическое отрицание оказывается за пределами самой апофатической культуры. Нигилист чувствует сакральное, но не знает его. Путь нигилиста – путь чувств. Там где люди говорят о сакральном, нигилист чувствует фальшь морали, культуры и самого языка. Поэтому, повторю, нигислист пытается сосредоточиться на мгновении, когда чувствам мешает гул церковных колоколов. Звук колоколов –– о сакральном, не в языке выраженном, но культурно репрезентированном.
Нигилист любит тишину и шум одновременно. Ни там, ни тут нет культуры и морали. Для нигилиста подлинная реальность соткана из тишины и шума. Он хотел бы раствориться во всём в этой реальности. И он мог бы это сделать – ведь он не скован цепями морализма, долга, обязательств. Но чувство сакрального возвращает его обратно. Он чувствует то важное и невыразимое, что ещё есть в мире. Поэтому нигилист не уходит. И делает всё, чтобы не уходили другие.
«Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...».
Тургенев И.С. Отцы и дети.
1Цит. по Черненко Ж. И. Трагедия на площади Хеймаркет и в сердцах трёх активисток // Диалог со временем. 2020. Вып. 71. С. 260-270. С.264.