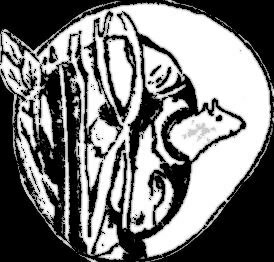Юлия Тихомирова
Родилась в 2003 году в Видном.
Жила в Подольске, Брайтоне, Лондоне и Москве.
Художественный критик, историк искусства, куратор-дилетант.
Постоянный автор издания «Артгид».
На птичьих правах пишет рецензии в журналы «Диалог искусств», «Black Square», «Флаги», газету «Коммерсантъ» и эссе в «Художественный Журнал».
Живет, учится и работает в Москве.
Жила в Подольске, Брайтоне, Лондоне и Москве.
Художественный критик, историк искусства, куратор-дилетант.
Постоянный автор издания «Артгид».
На птичьих правах пишет рецензии в журналы «Диалог искусств», «Black Square», «Флаги», газету «Коммерсантъ» и эссе в «Художественный Журнал».
Живет, учится и работает в Москве.
За наблюдателем наблюдают: опыт эстетического вуайеризма. О портретах Наталии Турновой
Арт-критик и историк искусства старается в поэтизирующей форме разобраться с эффектом, вызываемым портретами Наталии Турновой.
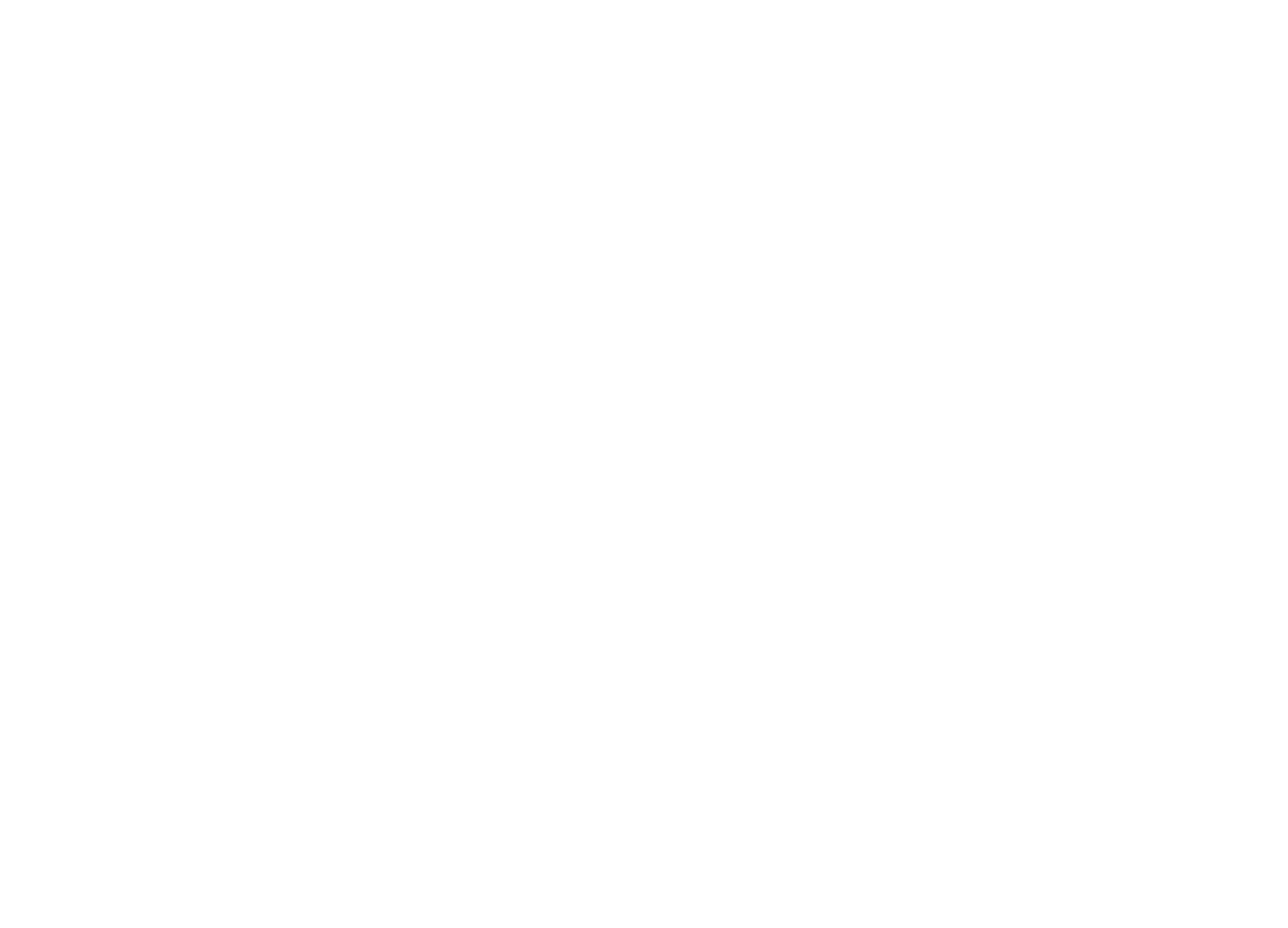
На последнем этаже музея мы остались вдвоем: я и Наталия Турнова. Понедельник — нерабочий день для учреждений культуры. Турнова дописывает свои картины для выставки: говорят, мастерская у нее крохотная и бессветная, потому она и пишет тут, прямо в зале. К стенам прислонены громадные разноглазые портреты. Меня она не видит, я не отсвечиваю, привалившись спиной к дверному косяку. Светафорические красно-зеленые глаза портретов не до конца осознают зримое, некоторые из них оголтело вперились в пустоту, другие воют разноцветными белками глаз. Турнова оказалась маленькой женщиной с шелестящим шагом, внешняя камерность ее резко контрастировала с работами. Смотрю на эти картины и сводит судорогой где-то в районе коренных зубов. Или как бы сверлом в глазницу проникают. Всё от взгляда этих портретов, вот, например один смотрит так: правый глаз белесый с кривым зраком, почти осознанный, левый — мутно-красный и дребезжащий, агонизирующий.
Некоторые казалось бы очевидные вещи необходимо осознать на интеллектуальном и даже физическом уровне как следует, вот одна из таких очевидностей: хороший портрет как картина, хорошая живопись и хорошо воссозданный человек — это три разные категории. Наталия Турнова редко подписывает свои работы именами изображенных, даже если такие есть, яркое исключение — серии «Мистики XX века» и «Полководцы», но в изображениях военачальников Турнова как раз избегала физического сродства, стараясь представить массовый образ, личину восприятия, а не живого человека. Так или иначе, портреты Турновой не про сходство, а про образную артикуляцию аффекта. В самых эмоционально тяжелых работах она выхватывает тот миг, когда человеком овладевает ярчайший аффект: оболочка вся становится вместилищем чистого состояния. Поэтому говоря о Турновой «портретист», надо оговариваться. Это не портрет человека во всей его многогранности и не запечатления внешности, это портрет человека мощно редуцированного до аффекта, причем не всегда явно считываемого. Это переполненные оболочки, но чем они переполнены — это вопрос.
Это ни в коем случае не поп-арт. Кощунственная трансгрессия Энди Уорхола, репродуцировавшего искореженную аварией машину или электрический стул, в предельном отстранении, в механистичности, — он демонстрировал холодность современного ему техницистского мира по отношению к смерти, страданию, боли. Уорхол не был назидательным, дидактичным или насмехающимся — это художественная авторегистрация. Таков цимес поп-арта, отнюдь не яркие цвета или форма плаката. Портреты Турновой действительно яркие, лапидарные, плакатные, но не отстраненные. Сложность описания портретов Турновой в том, что это и не предельно субъективное видение художника-индивидуалиста (вспомним попытку отобразить взгляд массы на военачальника). Наталия Турнова лучше описывается аудиальными эпитетами, нежели визуальными: вой, удушливый стон, мычание, вой внутрь. Среди художников конгениальную фигуру все же найти можно, портреты Турновой порой исторгают полый крик скульптур Сидура.
Оттого меня, тайного наблюдателя процесса работы Турновой, зацепили глаза портретов. Зрение оказывается атаковано подразумеваемым звуком, наиболее адекватно передающим состояние изображений. Оказаться в поле зрения этих портретов — страшное дело, можно наткнуться на невидение или сверхвидение.
А вот еще кое-что. У всех бывают навязчивые кошмары, у меня тоже есть. Под утро мне порой снится сон: будто бы я беру в руку острую иглу и выкалываю ей свой глаз. Это всегда последний сон в полудреме, морок прямо перед началом дня. Не сразу соотнесла, но ощущения от этого сна продублировались в моем теле, когда я смотрела на портреты Турновой.
И все же: как категоризировать портреты Турновой? Говорят: у Целкова — рожи, у Пятницкого — морды, у иконописцев — лики. Кто у Турновой? Попытаемся ответить на этот вопрос. Дезориентированность изображенных напомнила мне о первых российских портретах — парсунах. Точнее об одной конкретной серии, о пародический парадных портретов участников «Всешутейшего собора» Петра I. Портретную живопись петровской эпохи принято рассматривать как явление, соответствующее переходу от Средневековья к Новому времени: иконное изображение святого, основывающееся на метафизическом понимании человека как «образа и подобия божьего» начинает сосуществовать с практикой запечатления конкретного человека в определенное время — абстрактное сменялось конкретным, вечное соперничало с временным и переходящим, мимесис «подобия» и «Творца» переходил в тождество человека и его облика. Описывая портреты участников «Собора», исследователи отмечают пропитывающий их дух мрачного маскарада. Но чем он обусловлен? Дело в том, что «соборы» были не просто чередой разрозненных мероприятий, но образом жизни, параллельным «изнаночным универсумом», созданным властью Петра. «Соборы» часто включали в себя уничижительные практики. Придворные «Всешутейшие» портреты — это изображение людей, чье тело стало оболочкой для изнаночных личин. И вот такие утомленные тела, вместилища с теплящейся в глубине испуганной личностью, были запечатлены.
Турнова тоже запечатлевает людей в пограничных состояниях: это личности, ставшие оболочками не для иных изнаночных личин, но для аффектов, порой яснейших, порой смутных. Портреты тут — парсуны, преобразованные в раскраску и после монументально масштабированные.
Говоря о такой живописи, мы всегда будем неточны. А от неточно подобранных определений язык тяжелеет и немеют десны, неприятное ощущение.
Когда музей работает и Турнова не приходит, ее полотна стоят отвернутые к стене, изнанкой к людям. Это дело техническое, понятно. Но, думается мне, еще и суеверное: долго под такими взглядами тяжело.
Некоторые казалось бы очевидные вещи необходимо осознать на интеллектуальном и даже физическом уровне как следует, вот одна из таких очевидностей: хороший портрет как картина, хорошая живопись и хорошо воссозданный человек — это три разные категории. Наталия Турнова редко подписывает свои работы именами изображенных, даже если такие есть, яркое исключение — серии «Мистики XX века» и «Полководцы», но в изображениях военачальников Турнова как раз избегала физического сродства, стараясь представить массовый образ, личину восприятия, а не живого человека. Так или иначе, портреты Турновой не про сходство, а про образную артикуляцию аффекта. В самых эмоционально тяжелых работах она выхватывает тот миг, когда человеком овладевает ярчайший аффект: оболочка вся становится вместилищем чистого состояния. Поэтому говоря о Турновой «портретист», надо оговариваться. Это не портрет человека во всей его многогранности и не запечатления внешности, это портрет человека мощно редуцированного до аффекта, причем не всегда явно считываемого. Это переполненные оболочки, но чем они переполнены — это вопрос.
Это ни в коем случае не поп-арт. Кощунственная трансгрессия Энди Уорхола, репродуцировавшего искореженную аварией машину или электрический стул, в предельном отстранении, в механистичности, — он демонстрировал холодность современного ему техницистского мира по отношению к смерти, страданию, боли. Уорхол не был назидательным, дидактичным или насмехающимся — это художественная авторегистрация. Таков цимес поп-арта, отнюдь не яркие цвета или форма плаката. Портреты Турновой действительно яркие, лапидарные, плакатные, но не отстраненные. Сложность описания портретов Турновой в том, что это и не предельно субъективное видение художника-индивидуалиста (вспомним попытку отобразить взгляд массы на военачальника). Наталия Турнова лучше описывается аудиальными эпитетами, нежели визуальными: вой, удушливый стон, мычание, вой внутрь. Среди художников конгениальную фигуру все же найти можно, портреты Турновой порой исторгают полый крик скульптур Сидура.
Оттого меня, тайного наблюдателя процесса работы Турновой, зацепили глаза портретов. Зрение оказывается атаковано подразумеваемым звуком, наиболее адекватно передающим состояние изображений. Оказаться в поле зрения этих портретов — страшное дело, можно наткнуться на невидение или сверхвидение.
А вот еще кое-что. У всех бывают навязчивые кошмары, у меня тоже есть. Под утро мне порой снится сон: будто бы я беру в руку острую иглу и выкалываю ей свой глаз. Это всегда последний сон в полудреме, морок прямо перед началом дня. Не сразу соотнесла, но ощущения от этого сна продублировались в моем теле, когда я смотрела на портреты Турновой.
И все же: как категоризировать портреты Турновой? Говорят: у Целкова — рожи, у Пятницкого — морды, у иконописцев — лики. Кто у Турновой? Попытаемся ответить на этот вопрос. Дезориентированность изображенных напомнила мне о первых российских портретах — парсунах. Точнее об одной конкретной серии, о пародический парадных портретов участников «Всешутейшего собора» Петра I. Портретную живопись петровской эпохи принято рассматривать как явление, соответствующее переходу от Средневековья к Новому времени: иконное изображение святого, основывающееся на метафизическом понимании человека как «образа и подобия божьего» начинает сосуществовать с практикой запечатления конкретного человека в определенное время — абстрактное сменялось конкретным, вечное соперничало с временным и переходящим, мимесис «подобия» и «Творца» переходил в тождество человека и его облика. Описывая портреты участников «Собора», исследователи отмечают пропитывающий их дух мрачного маскарада. Но чем он обусловлен? Дело в том, что «соборы» были не просто чередой разрозненных мероприятий, но образом жизни, параллельным «изнаночным универсумом», созданным властью Петра. «Соборы» часто включали в себя уничижительные практики. Придворные «Всешутейшие» портреты — это изображение людей, чье тело стало оболочкой для изнаночных личин. И вот такие утомленные тела, вместилища с теплящейся в глубине испуганной личностью, были запечатлены.
Турнова тоже запечатлевает людей в пограничных состояниях: это личности, ставшие оболочками не для иных изнаночных личин, но для аффектов, порой яснейших, порой смутных. Портреты тут — парсуны, преобразованные в раскраску и после монументально масштабированные.
Говоря о такой живописи, мы всегда будем неточны. А от неточно подобранных определений язык тяжелеет и немеют десны, неприятное ощущение.
Когда музей работает и Турнова не приходит, ее полотна стоят отвернутые к стене, изнанкой к людям. Это дело техническое, понятно. Но, думается мне, еще и суеверное: долго под такими взглядами тяжело.